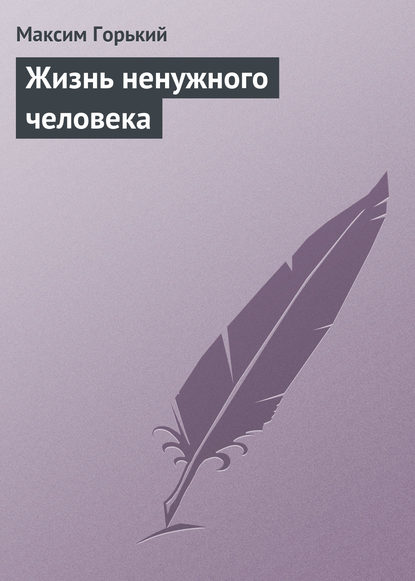 Полная версия
Полная версияЖизнь ненужного человека
– Не верю…
Мельников, точно медведь, повернулся, пошёл прочь, ворча:
– Ничего не понимает никто…
Евсей подвинулся к Маклакову, тот взглянул на него.
– Что?
– Рапорт…
Маклаков отмахнулся от него рукой.
– Какие сегодня рапорты!
– Тимофей Васильевич, что значит – конституция?
– Другой порядок жизни! – негромко ответил шпион. К нему подбежал Соловьев, потный, красный.
– Не слыхал – будут командировки в Петербург? Я думаю – должны быть, – такое событие! Ведь это бунт, а? Настоящий бунт! Крови-то сколько пролили! Что такое?
В голове Евсея медленно переворачивались, повторяясь, слова Маклакова:
«Другой порядок жизни…»
Они задели его за сердце, вызвав острое желание войти в их смысл. Но всё кругом вертелось, мелькало, и надоедливо звучал сердитый гулкий голос Мельникова:
– Надо знать – какой народ? Одно дело – рабочие люди, другое – просто жители. Это нужно различать…
А Красавин чётко говорил:
– Если даже и народом начат бунт против государя, то уже – народа нет, а только бунтовщики…
– Погоди… а когда тут обман?..
– Эй, чёрт! – зашептал Зарубин, подбегая к Евсею. – Вот так я попал в дело!.. Идём, расскажу!
Климков молча шагнул за ним, но остановился.
– Куда идти?
– В портерную в одну. Понимаешь, – там есть девица Маргарита, а у неё знакомая модистка, а у этой модистки на квартире по субботам книжки читают, студенты и разные этакие…
– Я не пойду! – сказал Евсей.
– Эх ты, – у!
Лента странных впечатлений быстро опутывала сердце, мешая понять то, что происходит. Климков незаметно ушёл домой, унося с собою предчувствие близкой беды. Она уже притаилась где-то, протягивает к нему неотразимые руки, наливая сердце новым страхом. Климков старался идти в тени, ближе к заборам, вспоминая тревожные лица, возбуждённые голоса, бессвязный говор о смерти, о крови, о широких могилах, куда, точно мусор, сваливались десятки трупов.
Дома он встал у окна и долго смотрел на жёлтый огонь фонаря, – в полосу его света поспешно входили какие-то люди и снова ныряли во тьму. В голове Евсея тоже слабо засветилась бледная узкая полоса робкого огня, через неё медленно и неумело проползали осторожные, серые мысли, беспомощно цепляясь друг за друга, точно вереница слепых.
В бреду шли дни, наполненные страшными рассказами о яростном истреблении людей. Евсею казалось, что дни эти ползут по земле, как чёрные, безглазые чудовища, разбухшие от крови, поглощённой ими, ползут, широко открыв огромные пасти, отравляя воздух душным, солёным запахом. Люди бегут и падают, кричат и плачут, мешая слёзы с кровью своей, а слепые чудовища уничтожают их, давят старых и молодых, женщин и детей. Их толкает вперёд на истребление жизни владыка её – страх, сильный, как течение широкой реки.
Это случилось далеко, в городе, неизвестном Евсею, но он знал, что страх живёт везде, он чувствовал его всюду вокруг себя.
Никто не понимал события, никто не мог объяснить его, оно встало перед людьми огромной загадкой и пугало их. Шпионы с утра до вечера торчали на местах своих свиданий, читали газеты, толклись в канцелярии охраны, спорили и тесно жались друг к другу, пили водку и нетерпеливо ждали чего-то.
– Кто-нибудь может объяснить правду? – спрашивал Мельников.
Через несколько дней, вечером, они собрались в охранном отделении, и Саша резко сказал:
– Довольно болтать ерунду! Это японский план, японцы дали восемнадцать миллионов попу Гапону, чтобы возбудить в народе бунт, – поняли? Народ напоили по дороге ко дворцу, революционеры приказали разбить несколько винных лавок – понятно?
И он окидывал всех красными глазами, как будто искал среди слушателей несогласных с ним.
– Они думали, что государь, любя народ, выйдет к нему, а в это время решено было убить его. Ясно?
– Ясно! – крикнул Яков Зарубин и стал что-то записывать в свою книжку.
– Болван! – сурово сказал Саша. – Я не тебя спрашиваю. Мельников, понимаешь?
Мельников сидел в углу, схватив голову руками, и качался, точно у него болели зубы. Не изменяя позы, он ответил:
– Обман! – Голос его тупо ударился в пол, точно упало что-то тяжёлое и мягкое.
– Ну да, обман! – повторил Саша и снова начал говорить быстро и складно. Иногда он осторожно дотрагивался до своего лба, потом, посмотрев на пальцы, отирал их о колено. Евсею казалось, что даже слова его пропитаны гнилым запахом; понимая всё, что говорил шпион, он чувствовал, что эта речь не стирает, не может стереть в его мозгу тёмных дней праздника смерти. Все молчали, изредка покачивая головами, никто не смотрел друг на друга, было тихо, скучно, слова Саши долго плавали по комнате над фигурами людей, никого не задевая.
– А если было известно, что народ обманут, – зачем его убивать? – неожиданно спросил Мельников.
– Дурак! – крикнул Саша. – Тебе скажут, что я любовник твоей жены, а ты напьёшься и полезешь с ножом на меня, – что я должен делать? На, бей, хотя тебе наврали и я не виноват…
Мельников вдруг встал, вытянулся и зарычал:
– Не лай, собака!
Евсей покачнулся от его слов, а сидевший рядом с ним тонкий и слабый Веков боязливо прошептал:
– О, господи! Держите его…
Саша оскалил зубы, сунул руку в карман, отшатнулся назад. Все остальные – их было много – сидели молча, неподвижно и ждали, следя за рукою Саши. Мельников взмахнул шапкой и не спеша пошёл к двери.
– Не боюсь я твоего пистолета…
Он с шумом хлопнул дверью, Веков встал, запер её и, возвращаясь на своё место, проговорил:
– Какой опасный мужчина…
– Итак, – продолжал Саша, вынув из кармана револьвер и рассматривая его, – завтра с утра каждый должен быть у своего дела – слышали? Имейте в виду, что теперь дела будет у всех больше, – часть наших уедет в Петербург, это раз; во-вторых – именно теперь вы все должны особенно насторожить и глаза и уши. Люди начнут болтать разное по поводу этой истории, революционеришки станут менее осторожны – понятно?
Благообразный Грохотов громко вздохнул и проговорил:
– Если так – японцы, деньги большие, – то, конечно, это объясняет!
– Без объяснения очень трудно! – сказал кто-то.
– Все очень интересуются этим бунтом…
Голоса звучали вяло, с натугой.
– Ну, теперь вы знаете, в чём дело и как надо говорить с болванами! – сердито сказал Саша. – А если какой-нибудь осёл начнёт болтать – за шиворот его, свисти городового и – в участок! Туда даны указания, что надо делать с этим народом. Эй, Веков или кто-нибудь, позвоните, пусть мне принесут сельтерской!
К звонку бросился Яков Зарубин.
– Н-да-а, – задумчиво протянул Грохотов. – А всё-таки они – сила! Сто тысяч народу поднять…
– Глупость – легка, поднять её не трудно! – перебил его Саша. – Поднять было чем – были деньги. Дайте-ка мне такие деньги, я вам покажу, как надо делать историю! – Саша выругался похабною руганью, привстал на диване, протянул вперед жёлтую, худую руку с револьвером в ней, прищурил глаза и, целясь в потолок, вскричал сквозь зубы, жадно всхлипнувшим голосом: – Я бы показал…
Евсею всё казалось бессильным, ненужным, как редкие капли дождя для пламени пожара; всё это не угашало страха, не могло остановить тихий рост предчувствия беды.
В эти дни, незаметно для него, в нём сложилось новое отношение к людям, – он узнал, что одни могут собраться на улицах десятками тысяч и пойти просить помощи себе у богатого и сильного царя, а другие люди могут истреблять их за это. Он вспомнил всё, что говорил Дудка о нищете народа, о богатстве царя, и был уверен, что и те и другие поступают так со страха – одних пугает нищенская жизнь, другие боятся обнищать. Но всё же люди удивили его своей отчаянной смелостью и вызвали в нём чувство, до сей поры незнакомое ему.
Теперь, шагая по улице с ящиком на груди, он по-прежнему осторожно уступал дорогу встречным пешеходам, сходя с тротуара на мостовую или прижимаясь к стенам домов, но стал смотреть в лица людей более внимательно, с чувством, которое было подобно почтению к ним. Человеческие лица вдруг изменились, стали значительнее, разнообразнее, все начали охотнее и проще заговаривать друг с другом, ходили быстрее, твёрже.
XIII
Евсей часто бывал в одном доме, где жили доктор и журналист, за которыми он должен был следить. У доктора служила кормилица Маша, полная и круглая женщина с весёлым взглядом голубых глаз. Она была ласкова, говорила быстро, а иные слова растягивала, точно пела их. Чисто одетая в белый или голубой сарафан, с бусами на голой шее, пышногрудая, сытая, здоровая, она нравилась Евсею.
Он увидал её дней через пять после того, как Саша объяснил причины бунта. Маша сидела на постели в комнате кухарки, лицо у неё опухло, нижняя губа смешно оттопырилась.
– Здравствуй! – сердито сказала она. – Не надо ничего, – иди! Не надо…
– Хозяева обидели? – спросил Евсей.
Он чувствовал, что это не так, но считал себя обязанным службою спросить именно об этом. Вынужденно вздохнул и добавил:
– На них всю жизнь работай…
Худая, сердитая кухарка вдруг закричала:
– Зятя у неё убили!.. А сестру нагайками исхлестали, в больницу легла…
– В Петербурге? – тихо осведомился Климков.
– Ну да…
Маша набрала полную грудь воздуха и протяжно застонала.
– Господи! Переплётчик; смирный, непьющий, – по сорок рублей в месяц добывал. Таню избили, а она – на сносях. Мужеву товарищу… ногу прострелили… Всех убили, всех изувечили, окаянные, чтобы им ни сна, ни отдыха!
Она долго, злобно взвизгивала, растрёпанная, жалкая, а потом свалилась на постель и, воткнув в подушки голову, глухо застонала, вздрагивая.
– Дядя прислал ей письмо, – говорила кухарка, бегая от плиты к столу и обратно. – Что пишет! Вся наша улица письмо это читает, никто не может понять! Шёл народ с иконами, со святыми, попы были – всё по-христиански… Шли к царю они, – дескать, государь, отец, убавь начальства, невозможно нам жить при таком множестве начальников, и податей не хватает на жалованье им, и волю они взяли над нами без края, что пожелают, то и дерут. Честно, открыто всё было, и вся полиция знала, никто не мешал… Пошли, идут, и вдруг – давай в них стрелять! Окружили их со всех концов и стреляют, и рубят, и конями топчут. Два дня избивали насмерть, ты подумай!
Её неприятный голос опустился до шёпота, стало слышно, как шипит масло на плите, сердито булькает, закипая, вода в котле, глухо воет огонь и стонет Маша. Евсей почувствовал себя обязанным ответить на острые вопросы кухарки, ему хотелось утешить Машу, он осторожно покашлял и сказал, не глядя ни на кого:
– Говорят – японцы это устроили…
– Та-ак! – иронически вскричала кухарка. – Вот-вот, – японцы, как же! Знаем мы этих японцев. Барин наш объяснял, кто они такие, да! Скажи-ка ты брату моему про японцев, он тоже знает, как их зовут. Подлецы, а не японцы…
По рассказам Мельникова Евсею было известно, что брат кухарки, Матвей Зимин, служит на мебельной фабрике и читает запрещённые книжки. И вдруг Евсею захотелось сказать, что полиции известна неблагонадёжность Зимина.
Но в эту минуту Маша вскочила с постели и, поправляя волосы, закричала:
– Нечем оправдаться – выдумали японцев!..
– Сво-олочи! – протянула кухарка. – Вчера, на базаре, тоже какой-то насчёт японцев проповедь говорил… Старичок один послушал его, да как начал сам – и про генералов и про министров, – без стеснения! Нет, народ не обманешь!
Глядя на пол, Климков молчал. Желание сказать кухарке о надзоре за её братом исчезло. Невольно думалось, что каждый убитый имеет родных, и теперь они – вот так же – недоумевают, спрашивают друг друга: за что? Плачут, а в сердцах у них растет ненависть к убийцам и к тем, кто старается оправдать преступление. Он вздохнул и сказал:
– Страшное дело сделано…
Думая про себя:
«Мне ведь тоже надо защищать начальство…»
Маша толкнула ногой дверь в кухню, и Евсей остался один с кухаркой. Она покосилась на дверь и ворчливо говорила:
– Убивается женщина, молоко даже спортилось у неё, третий день не кормит! Ты вот что, торговец, в четверг, на той неделе, рождение её, – кстати я тоже именины свои праздновать буду, – так ты приходи-ка в гости к нам, да подари ей хоть бусы хорошие. Надо как-нибудь утешить!
– Я приду!
Климков ушёл, взвешивая в уме всё, что говорили Женщины. Речи кухарки были слишком крикливы, бойки, сразу чувствовалось, что она говорит не от себя, а чужое; горе Маши не трогало его. Но он понимал, что эти речи были необычны, не по-человечески смелы. У Евсея было своё объяснение события: страх толкнул людей друг против друга, и тогда вооружённые и обезумевшие истребили безоружных и безумных. Но это объяснение не успокаивало души, – он видел и слышал, что люди как будто начинают освобождать себя из плена страха, упрямо ищут виноватых, находят их и осуждают. Всюду появилось множество тайных листков, в них революционеры описывали кровавые дни в Петербурге и ругали царя, убеждая народ не верить правительству. Евсей прочитал несколько таких листков, их язык показался ему непонятным, но он почувствовал в этих бумажках опасное, неотразимо входившее в сердце, насыщая его новой тревогой. И решил больше не читать их.
Было строго приказано найти типографию, в которой печатались листки, переловить людей, которые раскидывали их; Саша ругался и даже ударил за что-то Векова по лицу. Филипп Филиппович стал приглашать по вечерам агентов и беседовал с ними. Обыкновенно он сидел среди комнаты за столом, положив на него руки, разбрасывал по столу свои длинные пальцы и всё время тихонько двигал ими, щупая карандаши, перья, бумагу; на пальцах у него разноцветно сверкали какие-то камни, из-под чёрной бороды выглядывала жёлтая большая медаль; он медленно ворочал короткой шеей, и бездонные, синие стёкла очков поочерёдно присасывались к лицам людей, смирно и молча сидевших у стен. Он никогда почти не вставал с кресла, у него двигались только пальцы да шея; толстое лицо казалось нарисованным, борода приклеенной. Пухлый и белый, он был солиден, когда молчал, но как только раздавался его тонкий, взвизгивающий голос, похожий на пение железной пилы, когда её точит подпилок, всё на нём – чёрный сюртук и орден, камни и борода – становилось чужим и лишним. Иногда Евсей думал, что перед ним сидит искусно сделанная кукла, а в ней спрятан маленький, сморщенный человечек, похожий на чёртика, и что, если на эту куклу громко крикнуть, чёртик испугается, выскочит из неё и убежит, прыгнув в окно.
Но он боялся Филиппа Филипповича и, чтобы не привлечь на себя заглатывающего взгляда его синих очков, сидел возможно дальше от него и тоже всё время старался не двигаться.
– Господа! – дрожал в воздухе тонкий голос. – Вы должны запомнить слова мои. Каждый должен весь свой ум, всю душу вложить в борьбу с тайным, хитрым врагом. В борьбе за жизнь вашей матери России все средства позволены. Революционеры не брезгуют ничем, не стесняются и убийством. Вспомните, сколько погибло ваших товарищей от их руки. Я не говорю вам – убивайте, нет, конечно, убить человека немудрено, это может сделать всякий дурак. Закон – с вами, вы идёте против беззаконников, щадить их преступно, их надо искоренять, как вредную траву. Вы должны сами догадываться о том, как вернее и лучше задушить нарождающуюся революцию… Этого требует царь и родина…
Помолчав, он взглянул на свои кольца.
– У вас мало энергии, мало любви к делу. Например: вы прозевали старого революционера Сайдакова; мне известно, что он прожил у нас в городе три с половиною месяца. Второе, вы до сей поры не можете найти типографию…
Кто-то обиженно сказал:
– Без провокаторов – трудно…
– Прошу не прерывать! Я сам знаю, что трудно и что легко! Вы до сей поры не можете собрать серьёзных улик против целого ряда лиц, известных своим крамольным духом, не можете дать оснований для их ареста…
– А вы – без оснований! – сказал Пётр и засмеялся.
– К чему эти шутки? Я говорю серьёзно. Если мы арестуем их без оснований, мы должны будем выпустить их, – только и всего. А лично вам, Пётр Петрович, я замечу, что вы уже давно обещали мне нечто – помните?.. Точно так же и вы, Красавин, говорили, что вам удалось познакомиться с человеком, который может провести вас к террористам, – ну, что же?..
– Жулик он, человек-то! Да вы подождите, я своё дело сделаю!.. – спокойно отозвался Красавин.
– Не сомневаюсь, но прошу всех вас понять, что мы должны работать энергичнее. Надо торопиться!
Говорил он долго, иногда целый час, не отдыхая, спокойно, одним и тем же голосом и только слова – должен, должны – произносил как-то особенно, в два удара: сперва звонко выкрикивал: – «доллл…» – и, шипящим голосом оканчивая: – «жженн», – обводил всех синими лучами стеклянного взгляда. Это слово хватало Евсея за горло и душило.
А шпионы, после беседы, говорили друг с другом:
– Крещёный жид, а поди-ка ты…
– Ему с Нового года ещё прибавили шестьсот рублей…
Иногда вместо Филиппа с шпионами беседовал красивый, богато одетый господин Леонтьев. Он не сидел, а расхаживал по комнате, держа руки в карманах, вежливо сторонился от всех, его гладкое лицо было холодно и брезгливо, тонкие губы двигались неохотно, он всегда хмурился, и глаз его не было видно. Приезжал из Петербурга господин Ясногурский, широкоплечий, низенький, лысый, с орденом на груди. У него был огромный рот, дряблое лицо, тяжёлые глаза, точно два маленькие камня, и длинные руки. Говоря, он громко чмокал губами, щедро сыпал крепкие похабные ругательства, и Евсею особенно глубоко запомнилась одна его фраза:
– Они говорят народу: ты можешь устроить для себя другую, лёгкую жизнь. Врут они, дети мои! Жизнь строит государь император и святая наша церковь, а люди ничего не могут изменить, ничего!..
Все говорили об одном – нужно служить усерднее, нужно быть ловчее, потому что революционеры становятся всё более сильны. Иногда рассказывали о царях, о том, как они умны и добры, как боятся и ненавидят их иностранцы за то, что русские цари всегда освобождали разные народы из иностранного плена – освободили болгар и сербов из-под власти турецкого султана, хивинцев, бухар и туркмен из-под руки персидского шаха, маньчжуров от китайского царя. А немцы, англичане и японцы недовольны этим, они хотели бы забрать освобождённые Россией народы в свою власть, но знают, что царь не позволит им сделать это, – вот почему они ненавидят царя и, желая ему всякого зла, стараются устроить в России революцию.
Евсей, слушая эти речи, ждал, когда будут говорить о русском народе и объяснят: почему все люди неприятны и жестоки, любят мучить друг друга, живут такой беспокойной, неуютной жизнью, и отчего такая нищета, страх везде и всюду злые стоны? Но об этом никто не говорил.
После одной из бесед Веков сказал Евсею, идя с ним по улице:
– Значит – входят они в силу, слышал ты?.. Невозможно понять – что такое? Тайные люди, живут негласно – и вдруг начинают всё тревожить, – так сказать – всю жизнь раскачивают. Трудно сообразить – откуда же сила?
Мельников, теперь ещё более угрюмый и молчаливый, похудевший и растрёпанный, однажды ударил кулаком по колену и зарычал:
– Желаю знать – где правда?
– Что такое? – сердито спросил Маклаков.
– Что? Вот что – я так понимаю – одно начальство ослабело, наше начальство. Теперь поднимается на народ другое. Больше ничего!..
– И вышел вздор! – сказал Маклаков, смеясь. Мельников посмотрел на него и вздохнул.
– Не ври, Тимофей Васильевич… Врёшь ты… Умный, а врёшь.
Речи о революционерах западали в голову Климкова, создавая там тонкий слой новой почвы для роста мыслей; эти мысли беспокоили, куда-то тихо увлекали…
XIV
Идя в гости к Маше, он вдруг сообразил: «Познакомлюсь со столяром сегодня… Революционер…»
Он пришёл первым, подарил Маше голубые бусы, Анфисе роговую гребёнку; они, довольные подарками, наперебой угощали его чаем и наливкой. Маша, красиво выгибая полную белую шею, заглядывала в лицо ему с доброй улыбкой, и глаза её мягко ласкали его сердце. Анфиса, разливая чай, спрашивала:
– Ну, купец наш тороватый, когда же мы на твоей свадьбе гулять будем?
Евсей конфузился и, стараясь не показывать этого, доверчиво рассказывал:
– Жениться я не решусь, – это очень трудно…
– Трудно? Ах ты, скромница… Марья, слышишь? Трудно, говорит, жениться-то…
Маша улыбалась в ответ на громкий смех кухарки, искоса поглядывая на Климкова.
– Может, они трудность по-своему понимают…
– Я – по-своему!.. – сказал Евсей, поднимая голову. – Я, видите ли, насчёт того, что человека найти трудно, – чтобы жить душа в душу и друг друга не бояться. Чтобы верить человеку…
Маша села рядом с ним, он покосился на её шею, грудь, вздохнул…
«А если сказать им – где я служу?..»
Испуганный этим желанием, он быстрым усилием задавил его и, повысив голос, торопливо продолжал:
– Если человек не понимает жизнь, то лучше пусть он один остаётся…
– Одному – очень трудно! – сказала Маша и налила ему рюмку наливки. – Выкушайте!
Евсею хотелось говорить много и открыто, он видел, что его слушают охотно, и это, вместе с двумя рюмками вина, возбуждало его. Но пришла горничная журналиста, Лиза, тоже возбуждённая, и сразу овладела вниманием Анфисы и Маши. Косая на левый глаз, бойкая, красиво причёсанная и ловко одетая, она казалась хорошенькой и бесстыдной.
– Мои идолы созвали гостей на сегодня и не хотят меня отпускать! – говорила она, усаживаясь. – Ну, нет, говорю, уж как вам угодно…
– Много гостей? – скучно спросил Климков, вспомнив свои обязанности.
– Мно-ого! Да ведь это какие гости? Никогда никто гривенника в руку не сунет. Даже в Новый год и то два рубля тридцать копеек собрала я на чай с них…
– Небогатые, значит? – спрашивал Евсей.
– Ну, какое богатство? Ни у кого галош крепких нету…
– Кто же они, служащие?
– Разные. Иной в газете пишет, другой просто студент, – ах, какой один хорошенький есть! Чернобровый, кудрявый, с усиками, зубы белые, ровные, весёлый-развесёлый. Недавно приехал из Сибири, всё про охоту рассказывает…
Евсей взглянул на Лизу и опустил голову; хотелось сказать ей:
«Перестаньте!..»
Но вместо этого он тихо спросил:
– Сослан был?
– Кто его знает! Мои господа тоже были ссыльные.
– Кого теперь не ссылают! – воскликнула кухарка. – Жила я у Попова, инженера; богатый человек, свой дом имел, лошадей, жениться собирался, – вдруг пришли ночью жандармы – цап!.. И заслали его в Сибирь…
– Я господ своих не осуждаю! – перебила её Лиза. – Нисколько. Они хорошие люди, не ругаются, не жадные… И всё они знают, обо всём говорят…
Евсей беспомощно посмотрел на румяное лицо Маши и подумал:
«Молчала бы, дура…»
– И у нас господа тоже всё понимают! – заявила Маша с гордостью.
– Когда случилось это – бунт в Петербурге, – оживлённо начала Лиза, – так у нас все ночи напролёт говорили…
– Ведь и наши были у вас! – снова заметила кормилица.
– Были, были! Много народу было! И говорили они, и писали жалобы, а один даже заплакал, ей-богу!
– Заплачешь! – сказала кухарка, вздыхая.
– Схватил себя за голову и рыдает – несчастная, говорит, Россия! Воды ему давали. Даже мне жалко его, тоже заплакала…
Маша испуганно оглянулась.
– Господи, – как вспомню я сестрицу…
Встала и ушла в комнату кухарки. Женщины сочувственно посмотрели вслед ей, а Климков облегчённо вздохнул и против своего желания спросил Лизу, скучно и с натугой:
– Кому же они жалобы писали?
– Уж не знаю! – ответила Лиза.
– А Марья плакать пошла! – заметила кухарка.
Дверь отворилась, и, покашливая, вошёл брат кухарки.
– Холодновато! – сказал он, снимая с шеи красный шарф.
– А вот, выпей скорее…
– Следует! Здравствуй и поздравляю.
Тонкий, он двигался свободно, не торопясь, а в голосе у него звучало что-то важное, не сливавшееся с его светлой бородкой и острым черепом. Лицо у него было маленькое, худое, скромное, глаза большие, карие.
«Революционер!» – напомнил себе Евсей, молча пожимая руку столяра. И заявил: – Мне пора идти…
– Куда? – вскричала кухарка, схватив его за руку. – Ты, купец, не ломай компании…
Зимин взглянул на Евсея и задумчиво сказал:
– Вчера у нас на фабрике ещё заказ взяли. Гостиную, кабинет, спальню. Всё – военные заказывают. Наворовали денег и хотят жить в новом стиле…
«Ну, вот! – с досадой воскликнул мысленно Евсей. – Сразу начал, – ах, господи!»
Не представляя, к чему поведёт его вопрос, он спросил столяра:
– А у вас на фабрике революционеры есть?
Точно уколотый, Зимин быстро повернулся к нему и посмотрел в глаза. Кухарка нахмурилась и сказала негромко и недовольно:
– Говорят, они везде теперь есть…
– От ума это или от глупости? – спросила Лиза.



