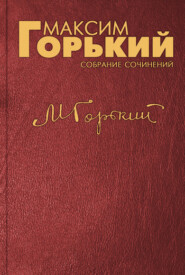 Полная версия
Полная версияЖизнь Матвея Кожемякина
– Лексей! – позвал Кожемякин, высунувшись из окна.
И, когда косой человек подошёл к окну, он, не сердясь, спросил его:
– Это ты почему про шарманку?
Глаза дворника метнулись к ушам, он развёл руками и, видимо, не очень смутясь, ответил:
– Так это, извините, к слову пришлось. Виноват, конечно!
Матвей усмехнулся.
– Да я – ничего. Ты – в своих мыслях волен, я – в своих. А о чём речь шла?
– Про госпожу Мансурову, – неохотно ответил Алексей. И, снова блеснув глазами, продолжал, откровенно и доверчиво: – Насчёт русского народа вообще, как – по моему умозрению – все люди находятся не на своём месте и неправильно понимают себя. Ему по природе души целовальником быть, а он, неизвестно с какой причины, в монахи лезет – это я про дядю своего. Или – вдруг хороший человек начинает пьянствовать до потери своего образа. А в Пензе служил я у судьи – оказалось, он смешные стихи сочиняет. Судья, – ведь это кто? Я к нему попал – он мне жизнь переломить сразу может, а он смешные стихи похабного сорта производит! Это не соответствует серьёзной обязанности. И очень много примеров. Про вас подумалось: купец, а нажиму нет у вас, живёте тоже несоответственно званию – один, ото всего в стороне. Купец – вообще… должен, например, иметь детей достаточно! Извините…
– Да я не виню тебя, – повторил Матвей успокоительно, а сам думал:
«Бойко говорит, не боится, хороший, видно, парень-то…»
Дня два после этого Алексей ходил хмурый, а потом подошёл к хозяину на дворе и, сняв картуз, вежливо попросил расчёт.
– Что ты? – удивлённо воскликнул Кожемякин. – Чем тебе худо у меня?
– Я доживу до второго сроку, а вы пока приищите себе другого человека, – помахивая картузом, говорил Алексей. – Я, извините, очень вами доволен, только мне не по характеру у вас…
Отвернувшись в сторону, усмехнулся и с некоторой горячностью объяснил:
– Я, видите, люблю, чтоб хозяин собака был, чтоб он мне душеньку грыз, а я бы ему мог противоречить. Такой характер – очень люблю спор и брань, что поделаешь!
– Смешной ты, брат! – с невесёлым любопытством сказал Кожемякин, оглядывая его щуплое тело. – Напрасно уходишь – куда? Сила у тебя невелика, начнёшь браниться – изобьют где-нибудь…
– Такое умозрение и характер! – ответил дворник, дёрнув плечи вверх. – Скушно у вас в городе – не дай бог как, спорить тут не с кем… Скажешь человеку: слыхал ты – царь Диоклетиан приказал, чтобы с пятницы вороны боле не каркали? А человек хлопнет глазами и спрашивает: ну? чего они ему помешали? Скушно!
– Да, здесь – скушновато, – тихо согласился Кожемякин. – Это и отец мой, бывало, говаривал, лет двадцать тому назад…
Дворник остро взглянул на него и, приложив руку ко рту, вежливо и тихо покашлял.
– Хоша – не только здесь, я вот в десяти губерниях жил, – тоже не весело-с! Везде люди вроде червяков на кладбище: есть свеженький покойничек – займутся, сожрут; нету промежду себя шевелятся…
Его жёлтые щёки надулись, и ненужная бородка встала ежом.
– Вот, вчера ходил самоубивца смотреть…
– Это который в земстве служил?
– Его. Лежит мёртвый человек, а лицо эдакое довольное, будто говорит мне: я, брат, помер и очень это приятно! Ей-богу, как будто бы умнейшее дело сделал!
– Пьянствовал он…
Дворник отступил на шаг в сторону, кинул картуз на голову и суховато сказал:
– Едва ли от радости…
– Да-а, – отозвался Кожемякин.
– Однако хочется попраздновать, один раз живёшь. Так уж я пойду где веселее, извините за беспокойство!
– Твоё дело. Куда же ты?
Алексей оглянулся, подумал.
– Да хотел в Воргород идти и в актёры наняться, ну – как у меня грыжа, а там требуется должностью кричать много, то Евгенья Петровна говорит – не возьмут меня…
– Когда она это говорила?
– Вчерась.
– Ходишь к ней разве? – тихо спросил Кожемякин.
– Как же! Неупустительно, как могу, они человек аграмаднейшего ума, и слышать речь их всегда праздник…
– Верно, – невольно сказал Матвей. – Ну, что ж! Значит – прощай, брат!
– Покорнейше благодарю! – сказал Алексей, тряхнув протянутую руку хозяина.
«Один раз живёшь, – думал Кожемякин, расхаживая по саду. – И всё прощаешься. Как мало-мальски интересен человек, так сейчас уходит куда-то. Экой город несчастный!»
Он на секунду закрыл глаза и со злой отчётливостью видел своё жилище – наизусть знал в нём все щели заборов, сучья в половицах, трещины в стенах, высоту каждого дерева в саду и все новые ветки, выросшие этим летом. Казалось, что и число волос в бороде Шакира известно ему; и знает он всё, что может сказать каждый рабочий на заводе.
Раньше он знал и все свои думы, было их немного, и были они случайны, бессвязны, тихо придут и печально уйдут, ничего не требуя, не возмущая душу, а словно приласкав её усыпляющей лаской. Теперь же тех дум нет, и едва ли воротятся они; новых – много и все прочно связаны, одна влечёт за собой другую, и от каждой во все стороны беспокойно расходятся лучи.
«Пойду к ней и скажу – спутала ты мне душу непоправимо…»
В воскресенье вечером он стоял у крыльца чистенького домика казначея и не знал – как войти: через парадную дверь в комнаты или двором, на кухню?
Он часто видал Матушкина в казначействе, это был барин строгий, бритый, со злыми губами, говорил он кратко, резко и смотрел на людей прямым, осуждающим взглядом.
«Заорёт ещё, если с парадного войти», – тоскуя, соображал Кожемякин.
В саду, за забором, утыканным длинными гвоздями, был слышен волнующий сердце голос Бори – хотелось перелезть через забор и отдать себя покровительству бойкого мальчика.
Он присел на корточки и, найдя щель в заборе, стал негромко звать Бориса, но щёлкнула щеколда калитки, и на улицу выглянула сама Евгения Петровна; Кожемякин выпрямился, снял картуз и наклонил голову.
– Здравствуйте! – слышал он приветливый голос, и горячая рука крепко схватила его руку. – Вы что же так долго не приходили?
«Разве ничего не случилось?» – хотел спросить он.
– Я видела из окна, как вы подошли к дому. Идёмте в сад, познакомлю с хозяйкой, вы знаете – у неё совсем ноги отнялись!
– У меня тоже! – пробормотал он. – Думал – не решусь войти…
Знакомая улыбка скользнула по лицу женщины.
– Казначея боитесь? Он уехал в отпуск, надолго. Борис, смотри, кто пришёл!
Из кустов выскочил Боря, победно взвизгнул и вцепился в гостя, как репей.
– Что же ты, брат, забыл уж меня? – глухо спрашивал Кожемякин, боясь, что сейчас заплачет.
– Вовсе нет, дядя Мотя, честное слово!
– Более двух недель прошло, а ты…
– Одиннадцать дней, – поправила Евгения Петровна.
«Считала!» – радостно подумал он.
– Очень некогда, – кричал Боря.
Мелькнула белая голова Вани Хряпова.
– Это пришёл канатчик…
– Здравствуйте, здравствуйте! – махая испачканными в земле ручками, кричала кудрявая Люба.
– Вот Варвара Дмитриевна…
В большом плетёном кресле полулежала странно маленькая фигурка женщины и, протягивая детскую руку, отдалённым голосом говорила:
– Очень рада, очень…
– Подожди, тётя Варя! – деловито сказал Борис, – сначала мы ему покажем…
– Исчезни, Борька…
Отгоняя сына, Евгения Петровна скрылась с ним за кустами – Кожемякину показалось, что она сделала это нарочно, он вздохнул.
– Евгения Петровна столько хорошего рассказала про вас…
Смущённо улыбаясь, Кожемякин смотрел в прозрачное, с огромными глазами лицо женщины.
«Страшная какая…»
Слова её падали медленно, как осенние листья в тихий день, но слушать их было приятно. Односложно отвечая, он вспоминал всё, что слышал про эту женщину: в своё время город много и злорадно говорил о ней, о том, как она в первый год по приезде сюда хотела всем нравиться, а муж ревновал её, как он потом начал пить и завёл любовницу, она же со стыда спряталась и точно умерла – давно уже никто не говорил о ней ни слова.
Тихонько напевая и обмахиваясь листом лопуха, подошла Евгения:
– Вы не знаете – много сгорело леса?
– Не слыхал… горит ещё…
– Это мужики подожгли? – спросила она, садясь в ногах хозяйки.
– Они, наверно. Леса-то не чищены, бурелому да сухостойнику много, огню – сытно…
– А мужикам зимой избы топить нечем…
– Пропадают леса, пропадают люди, – тихонько сказала казначейша.
– Это вы про самоубийцу?
– Вообще, про всех тут…
Говорили о грустном, но как-то так умело и красиво, что слушать было любопытно и легко.
Кожа на висках у хозяйки почти голубая, под глазами лежали черноватые тени, на тонкой шее около уха торопливо дрожало что-то, и вся эта женщина казалась изломанной, доживающей последние дни.
«Вот и Евгения, здесь живя, такой же стала бы!» – внезапно подумал Кожемякин и вздрогнул.
Заметя, что хозяйка внимательно прислушивается к его словам, он почувствовал себя так же просто и свободно, как в добрые часу наедине с Евгенией, когда забывал, что она женщина. Сидели в тени двух огромных лип, их густые ветви покрывали зелёным навесом почти весь небольшой сад, и закопчённое дымом небо было не видно сквозь полог листвы.
– Алексей-то уходит от меня, – сообщил Кожемякин Евгении.
Прикрыв лицо лопухом, так что были видны одни глаза, она сказала:
– Это я посоветовала ему. Пусть идёт в большой город, там жизнь умнее. Вот и вам тоже надо бы уехать отсюда…
– Что ж это будет, если все уезжать станут? – усмехнулся он. – Надо кому-нибудь на одном месте жить.
– Вам-то зачем?
– Так. Да и не гожусь я для больших городов, робок очень.
И рассказал, как, впервые приехав в Воргород, он в гостинице познакомился к какими-то людьми, а они уговорили его играть с ними в карты. Не смея отказаться, он уже сел за стол, но старичок-буфетчик вызвал его в коридор и сказал, что люди эти шулера и обязательно обыграют его. Старичок предложил запереть его в пустом номере, а им сказать, что он спешно вызван по делу. Часа три сидел он запертый, а за это время у него в номере подменили пуховую подушку перяной. На улицах он чувствовал себя так, точно воргородские люди враги ему: какой-то маляр обрызгал его зелёной краской, а купцы, которым он привёз свой товар, желая подшутить над его молодостью, напоили его вином и…
– Дальше уж и рассказать нельзя, что делалось, ей-богу! – смущённо сознался он, не глядя на женщин. – Словно бы я не русский и надо было им крестить меня в свою веру, только – не святою водой, а всякой скверной…
Прозрачное лицо казначейши налилось чем-то тёмным, и, поправляя волосы маленькими руками, она говорила:
– Отчего у нас все, везде, во всем так любят насиловать человека? Чуть только кто-нибудь хоть немного не похож на нас – все начинают грызть его, точить, стирать с души его всё, чем она особенна…
А Евгения горячо говорила знакомые ему речи:
– Думают, что счастье в мёртвом равновесии, в покое, в неизменности, и всё, что хоть немного нарушает этот покой, – ненавистно…
«Всегда одно говорит! – думал Кожемякин. – Как молитва это у неё…»
Вокруг было мирно, уютно, весело звучали голоса детей, обе женщины были как-то особенно близки, и было немного жалко их.
Речи, движения, лица, даже платья и башмаки – всё было у них иное, не окуровское: точно на пустыре, заваленном обломками и сором, среди глухого бурьяна, от семян, случайно занесённых ветром издалека, выросли на краткий срок два цветка, чужих этой земле.
Подо всем, что они говорили, скрывалось нечто ласково оправдывавшее людей, – это было особенно приятно слушать, и это более всего возбуждало чувство жалости к ним.
Он ушёл от них уже ночью, несколько примирённый с Евгенией.
«Надо нарушать покой, – ну, вот нарушила ты! – грустно думалось ему. – А теперь что я буду делать?»
Он стал ходить в дом казначейши всё чаще, подолгу засиживался там и, если Евгении не было, – жаловался больной хозяйке: пошатнулась его жизнь, жить, как раньше, не может, а иначе – не умеет. И говорил, что, пожалуй, начнёт пить.
– Ах, нет, нет! – вскрикивала она, пугливо мигая умирающими глазами. – Это потому всё, что вы прозрели и вам не привычен солнечный свет…
Её слова казались ему слащавыми, пустыми, были неприятны и не нужны, он хотел только, чтобы она передала его жалобы Евгении, которая как будто прятаться стала, постоянно куда-то уходя.
Он не решался более говорить ей о любви, но хотелось ещё раз остаться наедине с нею и сказать что-то окончательное, какие-то последние слова, а она не давала ему времени на это.
И как-то, встретив его у ворот, неожиданно сказала, точно ударила:
– Ну-с, через три дня я уезжаю.
Сказала она это громко, храбро, с неприятной улыбкой на губах, с потемневшими глазами.
Его обдало холодом. Стоя перед нею, он, подавленный, не мог сказать ни слова.
– Идёмте в поле! – предложила Евгения, взяв его под руку.
И когда пошли, она, прижимая локоть его к своему боку, тихо заговорила:
– Ну, дитя моё большое, жалко мне вас – очень, как брата, как сына…
– Женя! – прошептал он. – Как я буду?
– Поймите же – не себя я жалею, а не хочу обманывать вас!
Он взглянул в лицо ей и почти не узнал её – так небывало близка показалась она ему. Задыхаясь, чувствовал, что сердце у него расплавилось и течёт по жилам горячими, обновляющими токами.
– Родимая! – бормотал он. – Уж всё равно! Уж я не думаю о женитьбе, – что там? Вон, казначейша-то какая страшная, а мне тебя жалко. И на что тебе собака? А я бы собакой бегал за тобой…
– Перестаньте! – сказала она, оглянувшись.
– Об одном прошу тебя, – жарко говорил он, – будь сестрой милой! – не бросай, не забывай хоть. Напиши, извести про себя…
– Да. Конечно! Вы ещё встретите женщину и лучше меня, – сказала она, с досадой оправляя кофту на груди.
Он отрицательно махнул рукою.
– Нет. Зря человека не буду обижать, – всегда бы на её месте ты была – разве хорошо?
Дошли до Мордовского городища – четырёх бугров, поросших дёрном, здесь окуровцы зарывали опойц[13] и самоубийц; одно место, ещё недавно взрытое, не успело зарасти травой, и казалось, что с земли содрали кожу.
– Сядем.
Он покорно опустился рядом с нею. Взял руку её, гладил ладонью и тихонько причитал:
– Прощай, Женюшка, прощай, милая…
– Слушайте, – говорила она, не отнимая руки и касаясь плечом его плеча. – Вы дайте-ка мне денег…
– Бери сколько хошь…
– Мне – не надо! – сердито сказала она, вырвав руку. – Я куплю на них книг и пришлю вам, поняли?
Когда они возвращались в город, он ощущал, что какое-то новое, стойкое и сильное чувство зародилось в его груди и тихо одолевает всё прежнее, противоречивое и мучительное, что возбуждала в нём Евгения.
Но дома, ночью, снова показалось, что всё, сказанное ею сегодня, просто – слова, утешительные и нехитрые.
Вспомнилась злая речь Маркуши:
«Людям что ни говори, – всё будет: отстаньте!»
Стало тошно и холодно, точно в погреб столкнули его эти слова.
«Уедет – забудет… Одичаю я тут, как свинья в лесу, и издохну от тоски».
Но вдруг он подумал, что её можно привязать к себе деньгами, ведь она – бедная, а надобно сына воспитывать.
«Ну да! – размышлял он всё более уверенно. – Возьмёт денег и посчитает себя обязанной мне. Конечно!»
И на другой день предложил:
– Евгенья Петровна, возьми ты, пожалуйста, денег у меня…
– Да, да! – торопливо согласилась она. – Мне не с чем ехать. Вы дайте рублей двадцать!
– Отъезд – пустяки! – хмуро сказал Матвей. – Я – для Бори и, вообще, для житья…
Она выпрямилась, глаза её сердито вспыхнули, но тотчас, отвернувшись в сторону, неопределённо проговорила:
– Ну-у – это потом, если понадобится когда-нибудь…
– А сейчас бы взяла?
– А сейчас…
Подумав, Евгения сказала, так деловито, точно речь шла о тысячах:
– А сейчас я возьму двадцать пять рублей, – не двадцать, а двадцать пять! Вот.
«Дурак я! – выругался Кожемякин, сконфуженно опустив глаза. – Разве её подкупишь? Она и цены-то деньгам не знает».
Уезжала она утром, до зари, в холодные сумерки, когда город ещё спал.
Лицо у неё было розовое, оживлённое, а глаза блестели тревожно и сухо. В сером халате из парусины и в белой вуали на голове, она вертелась около возка и, размахивая широкими рукавами, напоминала запоздавшую осеннюю птицу на отлёте.
Невыспавшийся Борис мигал слипавшимися глазами и капризничал, сердито говоря Шакиру:
– Отчего такие маленькие лошади?
– Здесь скотина мелкий, – грустно отвечал татарин.
– Они и не довезут никуда вовсе! Это же переодетые собаки…
Наталья ходила по двору, отирая опухшие глаза.
– Евгеньюшка Петровна, лепёшечки-то в кулёчке, под сиденьем положены…
Мотал голым синим черепом Шакир, привязывая к задку возка старый кожаный сундук; ему, посапывая, помогал молодой ямщик, широкорожий, густо обрызганный веснушками.
Кожемякин стоял у ворот, гладя голову Бориса, и говорил ему:
– Ты – не забывай! Пиши, а? Про маму, про себя, как и что, – а?
– Конечно, буду! – неохотно отвечал мальчуган.
Из окна торчала растрёпанная голова казначейши, и медленно текли бескровные слова:
– Вы, Матвей Савельич, останетесь чай пить?
– Покорно благодарю, – бормотал он, следя за Евгенией.
А Евгения говорила какие-то ненужные слова, глаза её бегали не то тревожно, не то растерянно, и необычно суетливые движения снова напоминали птицу, засидевшуюся в клетке, вот дверца открыта перед нею, а она прыгает, глядя на свободу круглым глазом, и не решается вылететь, точно сомневаясь – не ловушка ли новая – эта открытая дверь?
Жалко было её.
«Одна. Куда едет? Одна…»
– Готова! – сказал Шакир.
Евгения Петровна подошла к Матвею, приподнимая вуаль с лица.
– Ну…
И, схватив его за рукав, повела в дом, отрывисто говоря:
– Надо сначала с Варварой Дмитриевной, с Любой проститься… она спит.
Матвей чувствовал, что она говорит не те слова, какие хочет, но не мешал ей.
Он остался в прихожей и, слушая, как в комнате, всхлипывая, целовались, видел перед собой землю, вспухшую холмами, неприветно ощетинившуюся лесом, в лощинах – тёмные деревни и холодные петли реки, а среди всего этого – бесконечную пыльную дорогу.
– Ну – прощайте, друг мой…
Она положила крепкие руки свои на плечи ему и, заглядывая в лицо мокрыми, сияющими глазами, стала что-то говорить утешительно и торопливо, а он обнял её и, целуя лоб, щёки, отвечал, не понимая и не слыша её слов:
– Не забывай Христа ради, всё-таки я – человек! Не забывай, пожалуйста!
Потом, стоя на крыльце, отуманенными глазами ревниво видел, что она и Шакира тоже целует, как поцеловала его, а татарин, топая ногами, как лошадь, толкает её в плечо синей башкой и кричит:
– Сыветлый…
Плачет Наталья. И, обняв друг друга, они втроём танцуют какой-то тяжёлый, судорожный танец.
«Все её полюбили, не один я…»
– Ах, господи! – кричал Боря, прыгая в возке. – Да дядя же Матвей, иди же!
Он подошёл к мальчику, устало говоря:
– Пиши, а? Пожалуйста…
– Я буду, – очень длинные письма…
Хлопая его ладонями по щекам и ушам, мальчик шмыгал носом, сдерживая слёзы, а капли их висели на подбородке у него.
Поехали, окутавшись облаком пыли, гремя, звоня и вскрикивая; над возком развевался белый вуаль и мелькала рука Евгении, а из окна отвечала казначейша, махая платком.
Две собаки выкатились откуда-то, растягиваясь, как резиновые, понеслись за лошадьми.
– Ну, вот, – говорила казначейша, сморкаясь, – уехала наша милая гостья! Идите, Матвей Савельич, попьём чаю и будем говорить о ней…
– Сейчас… благодарствую!.. – пробормотал он, покачнулся и пошёл вслед за возком.
Шёл тихонько, точно подкрадываясь к чему-то, что неодолимо тянуло вперёд, и так, незаметно для себя, вышел за город, пристально глядя на дорогу.
Там, в дымном облаке, катилось, подпрыгивая, тёмное пятно, и – когда горбина дороги скрывала его – сердце точно падало в груди. Вот возок взъехал на последний холм, закачался на нём и пропал из глаз.
Кожемякин остановился, сняв картуз.
«Прощай, Евгенья Петровна!»
Час тому назад он боялся представить себе, что будет с ним, когда она уедет, а вот уехала она, стало очень грустно, но – он переживал более тяжёлые и острые минуты.
Обеспокоенный, что ему менее больно, чем ожидал, Кожемякин снова и быстрее пошёл вперёд, прислушиваясь к себе.
«Устал я за эти дни! – размышлял он, точно оправдываясь перед кем-то. – Ждал всё, а теперь – решилось, ну, оно будто и полегчало на душе. Когда покойник в доме – худо, а зароют и – полегчает!»
Корявые берёзы, уже обрызганные жёлтым листом, ясно маячили в прозрачном воздухе осеннего утра, напоминая оплывшие свечи в церкви. По узким полоскам пашен, качая головами, тихо шагали маленькие лошади; синие и красные мужики безмолвно ходили за ними, наклонясь к земле, рыжей и сухой, а около дороги, в затоптанных канавах, бедно блестели жёлтые и лиловые цветы. Над пыльным дёрном неподвижно поднимались жёсткие бессмертники, – Кожемякин смотрел на них и вспоминал отзвучавшие слова:
«Надо любить, тогда не будет ни страха, ни одиночества, – надо любить!»
Он дошёл до холма, где в последний раз мелькнул возок, постоял, поглядел мокрыми глазами на синюю стену дальнего леса, прорезанную дорогой, оглянулся вокруг: стелется по неровному полю светлая тропа реки, путаясь и словно не зная, куда ей деваться. Земля похожа на истёртую шашечницу – все квадратики неровны, перепутаны. По границам окоёма стоят леса, подпирая пустое небо, и последние стрижи, звеня, чертят воздух быстрыми, как молнии, полётами. Чуть слышен стрёкот сверчков, с пашен текут, как стоны, унылые возгласы:
– О-о, милая…
Кожемякину казалось, что в груди у него пусто, как внутри колокола, сердце висит там, тяжёлое, холодное, и ничего не хочет.
Вдали распростёрся город, устремляя в светлую пустыню неба кресты церквей, чуть слышно бьют колокола, глухо ботают бондари – у них много работы: пришла пора капусту квасить и грибы солить.
«Бабам – интереснее жить! – нехотя подумал Матвей. – Дела у них эдакие… дети тоже…»
Над Чернораменским лесом всплыло белое осеннее солнце, а из города, встречу ему, точно мыши из тёмной щели, выбежали какие-то люди и покатились, запрыгали по дороге.
Город вспыхнул на солнце разными огнями и красками. Кожемякин пристально рассматривал игрушечные домики – все они были связаны садами и заборами и отделены друг от друга глубокими зияниями – пустотой, которая окружала каждый дом.
Росла, расширяя грудь до боли, выжимая слёзы, жалость, к ней примешивалась обида на кого-то, – захотелось бежать в город, встать там на площади – на видном для всех месте – и говорить мимо идущим:
«Милые мои люди, несчастные люди, – нестерпимо, до тоски смертной жалко вас, все вас – покидают, все вам – судьи, никем вы не любимы, и нету у вас друзей – милые мои люди, родные люди!..»
Он долго думал об этом, а потом вытер кулаком мокрые глаза и сердито остановил поток жалобных слов:
«Никто не услышит, а услышат – осмеют… Только и всего…»
И опустил голову, чужой сам себе.
Часть третья
Дважды ударил колокол, – вздрогнув, заныли стёкла окон, проснулся ночной сторож, лениво застучала трещотка, и точно некто ласковый, тихонько вздохнув, погладил мягкой рукою деревья в саду.
Кожемякин тяжело приподнял седую голову над зелёным абажуром лампы и, приложив ладонь ко лбу, поглядел на часы, – они показывали без четверти три.
Тишина безлунной ночи, вспугнутая на минуту стоном колокола, насторожилась, точно проснувшаяся кошка, и снова, плотно и мягко, улеглась на землю.
Старик тихонько вздохнул и, омакнув перо в чернильницу, согнулся над столом, аккуратно выводя на белой странице тетради чёткие слова:
«Оканчивая записи мои и дни мои, скажу тебе, далёкий друг: страшна и горька мне не смерть, а вот эта одинокая, бесприютная жизнь горька и страшна. Как это случается и отчего: тьма тём людей на земле, а жил я средь них, будто и не было меня. Жил всё в бедных мыслях про себя самого, как цыплёнок в скорлупе, а вылупиться – не нашёл силы. Думаю – и кажется мне: вот посетили меня мысли счастливые, никому неведомые и всем нужные, а запишешь их, и глядят они на тебя с бумаги, словно курносая мордва – все на одно лицо, а глаза у всех подслеповатые, красные от болезни и слезятся».
Написав эти строки, он поглядел на них, прищурясь, с тоскою чувствуя, что слова, как всегда, укоротили, обесцветили мысли, мучившие его, и задумался о тайном смысле слов, порою неожиданно открывавших пред ним свои ёмкие души и странные связи свои друг с другом.
Вспомнилось, как однажды слово «гнев» встало почему-то рядом со словом «огонь» и наполнило усталую в одиночестве душу угнетающей печалью.
«Гнев, – соображал он, – прогневаться, огневаться, – вот он откуда, гнев, – из огня! У кого огонь в душе горит, тот и гневен бывает. А я бывал ли гневен-то? Нет во мне огня, холодна душа моя, оттого все слова и мысли мои неживые какие-то и бескровные…»



