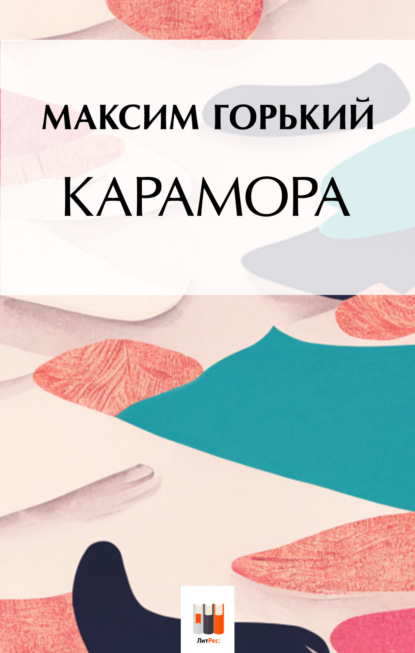 Полная версия
Полная версияКарамора
– Ну-у, – говорил он в ответ, – это наивно, батенька!
И возмущался:
– До чего испортили вас интеллигенты!
В его отношении ко мне было нечто, подкупавшее меня, это был интерес к человеку во всей его полноте, во всем объеме, так сказать – чистый интерес. Он жил вне служебного и корыстного, отдельно, независимо, как интерес «к человеку просто». Симонов смотрел на меня не как начальник на подчиненного, а как старший на младшего: не командовал, не приказывал, а предлагал и даже советовался:
– А как вы думаете, не пора ликвидировать этого нелегального?
И, если я находил, что ликвидировать преждевременно, он, без спора, соглашался со мною.
Он питал ко мне чувство, которое я бы назвал бережливостью. Может быть, это было даже то чувство любви, которое питает охотник к хорошей собаке. Я пишу это без иронии, без горечи, я слышал умную пословицу: «Самая красивая девушка не может дать больше того, что у нее есть». Эта пословица очень умиротворяет запросы души.
Случилось как-то так, что во множестве товарищей у меня не нашлось друзей. Ни одного человека, с которым я мог бы свободно говорить о самом существенном – о себе. Я, разумеется, пробовал говорить на эту тему, но разговоры в этом духе не удавались и не удовлетворяли меня. Не все зияния в душе можно заткнуть книгой, к тому же есть книги, которые очень зло расширяют и углубляют эти зияния. Редки люди, способные видеть, что всё на свете имеет свою тень, и всякие правды, все истины тоже не лишены этого придатка, конечно – лишнего. Тени эти возбуждают сомнения в чистоте правд, сомнения же не то что запрещены, а считаются постыдными и, так сказать, неблагонадежными. Сомневающийся – всегда подозрителен; вот это, пожалуй, истина, лишенная тени.
Среди товарищей я имел репутацию человека, идейно шаткого, капризного и – это хуже всего – склонного к романтизму, к «метафизике», как говорил товарищ Басов, человек, с которым я встречался чаще, чем с другими.
– Революционер обязан быть материалистом; материализм – это воля, совершенно очищенная от всего неразумного, иррационального, – говорил товарищ Басов, подчеркивая «р»; я понимал, что Басов говорит правильно, однако, по антипатии к нему, не соглашался с ним.
Симонов – человек, с которым можно было говорить о чем угодно, он умел внимательно слушать и никогда не стеснялся сознаться, что – этого он не понимает, этого – не знает, а иногда прямо говорил:
– Это мне не нужно знать.
К моему удивлению, ненужным оказался для него бог, к удивлению, потому что я думал – он верующий.
– Странно, что вы спрашиваете об этом, – сказал он, пожав плечами. – Какой там бог, когда у нас, у каждого, по четырнадцати аршин кишок в животах? И, затем, если – бог, то ведь и верблюд, и щука, и свинья должны чувствовать его, – понимаете? Ведь человек тоже животное. Разумное? Ну, разумных животных немало и кроме человека; к тому же установлено, что в этом деле разум ни при чем; бог постигается не разумом. Ну чего ж… Вы бы почитали Брема, право!
Изумлялся:
– Как испортили вас интеллигенты!
– Ну а если б не испортили – чем бы я был, на ваш взгляд?
Очень внимательно посмотрев на меня, он сказал:
– Н-не знаю. Может быть, изобретателем каким-нибудь. Не знаю. Вы очень странный.
Вообще же Симонов был человек не живой, какой-то плохо выдуманный и, должно быть, очень одинокий. Словоохотливый, он был скуп на жесты, руки его двигались медленно, смеялся он редко, и чувствовалось, что он глубоко равнодушен к жизни, к людям. А за всем этим он был ленив, возможно – ленив ленью усталости.
Я скоро убедился, что всё, что он говорил о наслаждениях охоты, игры, выдумано им для себя, взято с чужих слов. Охота на людей не увлекала его. Имея помощников в лице провокаторов, он вполне удовлетворялся этим и личную инициативу почти не проявлял. В сущности, если б я этого хотел, я, наверное, мог бы ничего не делать, а просто рассказывать Симонову анекдоты из партийной жизни, из быта революционеров. Анекдотическая сторона революции интересовала его, пожалуй, больше самой сути дела; анекдоты он выслушивал всегда внимательно, и чем глупее был анекдот, тем более широкую улыбку вызывал он на удручающе бесцветном лице Симонова. Однажды он заметил, вздохнув:
– А Попенко рассказывал эти штуки забавнее, чем вы. Он говорил, как Брем.
«Как Брем» – это наивысшая похвала в устах Симонова. «Жизнь животных» он читал всегда, как немец-меннонит Библию.
Как-то я спросил его:
– Почему вы называете Попова – Попенко?
– Так вижу, – ответил он. – Каждый видит по-своему. Попов должен быть выше ростом, и – руки у него длиннее.
Была у Симонова только одна черта, или привычка, возбуждавшая у меня неприятное и подозрительное чувство: иногда он, среди беседы, вдруг точно проваливался в неизвестное и непонятное мне. На безличном лице его являлась важная, но глупая гримаса, зрачки нелепо расширялись, он сосредоточенно и строго, как гипнотизер, смотрел на меня, но я чувствовал: видит он что-то другое, почти страшное. И при этом он, спрятав руки под стол, шевелил ими так, что мне казалось: он незаметно достает револьвер, чтоб застрелить меня. Эти припадки внезапной, немой задумчивости, провалы человека в неведомое и недоступное мне, были очень часты у него, и всегда я чувствовал себя нехорошо во время их.
Потом я стал думать, что в Симонове скрыто что-то значительное, таинственное, такое человеческое, чего он сам боится. Я ждал, что он откроет предо мною это, и мой интерес к нему становился всё более напряженным, ожидающим.
Есть теории добра: Евангелие, Коран, Талмуд, еще какие-то книги. Должна быть и теория зла, теория подлости. Должна быть такая теория. Всё надо объяснить, всё, иначе – как жить?
Вчера я написал:
«Если б я хотел, я мог бы ничего не делать», – иными словами: я мог бы не выдавать товарищей. Более того: мне легко было бы делать кое-что полезное для них. Я и делал, но, сделав, чувствовал, что это мне не нужно и не может ничего изменить внутри меня.
Я – выдавал. Почему? Вопрос этот я поставил пред собою с первого же дня службы в охране, но ответа на него не находил. Я всё ждал, что внутри меня вспыхнет протест, «заговорит совесть», но совесть молчала. Говорило только любопытство, спрашивая: «Что же будет дальше?»
Я очень настегивал себя, пытаясь разбудить чувство, которое осудило бы меня, сказало мне решительно:
«Ты преступник».
Разумом я сознавал, что делаю так называемое подлое дело, но это сознание не утверждалось соответствующим ему чувством самоосуждения, отвращения, раскаяния или хотя бы страха. Нет, ничего подобного я не испытывал, ничего, кроме любопытства; оно становилось всё более едким и, пожалуй, тревожным, выдвигая разные вопросы, например: «Почему так легок переход от подвигов героизма к подлости?»
Неужели прав дрянненький Попов, сказавший:
«Если борьба, так уж герои с обеих сторон».
Но «героем» я был в прошлом, а теперь чувствовал себя только человеком, который принужден, обязан решить темный вопрос: почему, делая подлое дело, я не чувствую отвращения к себе? Этот вопрос я ставил пред собою и так и всячески, на сотню ладов.
Потом я стал думать: а вдруг Симонов – прав, жизнь – дело сумасшедшего зверя, всё в ней – пустяки, игра, а я действительно испорчен интеллигентами, книгами? Вдруг все эти «учителя, жизни», социалисты, гуманисты, моралисты – врут; никакой социальной совести нет, сознание связи между людьми – выдумка, и вообще ничего нет, кроме людей, каждый из них стремится жить за счет сил другого, и это дано навсегда.
Ничего нет, всё выдумано, всё лживо, а я призван открыть ложь, я первый, кто должен открыть людям, что все они обмануты, жизнь действительно голая, зверячья борьба, и незачем сдерживать, главное, нечем сдержать эту борьбу. Я первый открыл, что у человека нет сил протестовать против подлости в себе самом, да и не надо протестовать против ее: она – законное и действительное орудие взаимной борьбы.
Есть очень злая сказка: народ единодушно восхищался красотою и богатством одежд короля, а мальчишка вдруг закричал: «Король-то совсем голый!» И все тотчас увидели: да, король гол и уродлив.
Может быть, это я и должен сыграть роль зоркого мальчишки?
Мысли этого порядка особенно настойчиво одолевали меня в четырнадцатом году, когда началась анафемская война и всё человеческое соскочило с людей, как чешуя с протухшей рыбы.
Прочитав написанное мною сейчас, я вижу, что всё это – не то, что надо, не так рассказано. Я изобразил себя человеком, который запутался в мыслях, философствуя, вывихнул себе душу, умертвил в ней всё то человеческое, что считается добрым, хорошим. Нет, это – не то, не так.
Мысли, несмотря на их обилие, никогда не смущали и не соблазняли меня. Они представляются мне пузырями на поверхности кипения чувств: вздуваются пузыри, лопаются, исчезают, заменяясь другими. Только те мысли живучи и действенны, которые заряжены чувством; когда они заряжены, я их физически ощущаю, тогда мысли, как пальцы, хватают, подбирают и перемещают факты, лепят, строят и, оплодотворенные чувством, в свою очередь рождают новые чувства. Одна, сама по себе, не оплодотворенная чувством, мысль играет с человеком, как проститутка, но совершенно не способна изменить что-либо в человеке. Конечно, иногда и проститутку искренно любят, но – естественнее относиться к ней осторожно: обворует, заразит.
Девятнадцать лет жил я среди однообразно мыслящих людей, жил, так сказать, в атмосфере мысли одноцветной окраски. Эта окраска не удовлетворяла меня, она казалась мне скучной, безрадостной, как осенний непогожий день. Но я видел, что люди так крепко взнузданы излюбленной ими мыслью именно потому, что она прочувствована насквозь, вошла в плоть и кости людей. Эта мысль – не пузырь, а – туго сжатый кулак, мысль, верующая в свою силу.
В седьмом и четырнадцатом годах, наблюдая, как легко люди отходят от своих верований, я убедился, что в них чего-то нет и никогда не было. Чего? Чувства физической брезгливости к тому, что отрицалось их мыслью? Не было привычки жить честно?
Вот здесь я, кажется, поймал что-то верное: привычка жить честно – это как раз то самое, чего не хватает людям. Этой привычки не хватало и товарищам моим. Быт их противоречил «убеждениям», «принципам», – догматам веры. Это противоречие особенно резко обнаруживалось в приемах фракционной борьбы, во вражде между людьми одинаковой веры, но различной тактики. Тут находил себе место бесстыднейший иезуитизм, допускались жульнические подвохи и даже подленькие приемы азартных игроков, увлеченных игрою до самозабвения, играющих уже только ради процесса игры.
Да, да – привычки жить честно нет у людей! Я, разумеется, понимаю, что большинство их не имело и не имеет возможности выработать эту привычку. Но те, кто ставит пред собою задачу перестроить жизнь, перевоспитать людей, – ошибаются, полагая, что «в борьбе все средства хороши». Нет, руководясь таким догматом, не воспитаешь в людях привычку жить честно.
А может быть, настало время сделать все возможные подлости, совершить все преступления, использовать сразу всё зло, для того чтоб, наконец, всё это надоело, опротивело, ужаснуло и погибло?
Странное дело! Никак не могу не связывать себя с кем-то или с чем-то, с людьми или событиями. Не могу, и – это очень похоже все-таки на попытку оправдать себя, попытку, скрываемую мною неискусно.
А между тем я совершенно лишен желания оправдываться, это я и знаю и чувствую. Это не из гордости, не из отчаяния человека, который изломал свою жизнь непоправимо. Не потому, что я хотел бы крикнуть: да, я преступник, вы – тоже, но у вас – сила, убивайте!
Мне кричать некуда, некому. Людей я не чувствую, они мне не нужны.
Все эти невольные попытки самооправдания мешают мне открыть главное, чего я ищу: почему в душе моей не нашлось ни свиста, ни звона, ни крика, ничего, что остановило бы меня на пути к предательству? И почему я сам себя не могу осудить? Почему, называя, сознавая себя преступником, я, по совести, не чувствую преступления?
Если мои записки имеют цель, так только эту – разрешить вопрос: отчего я так несоединимо и навсегда расклеился?
Я уже писал: я беспощадно нахлестывал себя, чтоб дойти до ответа. Я выдал охране и отправил на каторгу одного из лучших партийных товарищей, человека на редкость хорошего. Я очень уважал его за чистоту души, за бодрость духа, неутомимость в работе, добродушие и веселый характер. Он только что бежал из тюрьмы и третий раз работал нелегально. Выдал я его и ждал, что теперь в душе моей что-то взвоет.
Ничего не взвыло.
Симонов угощал меня красным вином какого-то необыкновенного вкуса и запаха, угощал и говорил:
– Хотите перевестись в Москву или Петербург? Здесь для вас уже мелка вода. Меня, вероятно, тоже скоро переведут в одну из столиц.
– Петр Филиппович, – спросил я, – как вы думаете: почему я стараюсь?
Он, по обыкновению, ответил не сразу, сначала внимательно посмотрел на меня, потом в потолок; пожал плечами:
– Не знаю. На деньги вы не жадны, честолюбия у вас – не заметно. Из чувства мести? Не похоже. Вы, в сущности, добряк.
Улыбаясь, он продолжал осторожно:
– Не первый раз вы спрашиваете меня об этом, а я уже говорил вам: вы – человек странный. Может быть, вы немножко сумасшедший? Тоже как будто нет. Ну а сами-то вы знаете: из-за чего же?
Тогда я кратко рассказал ему, в чем дело. Он слушал меня внимательно, молча; слушал и жег папиросы одну за другой. А когда я кончил, Симонов равнодушно сказал:
– Ну, это, знаете, даже опасно. Ф-фа, до чего испортили вас эти чертовы интеллигенты.
И, зажигая новую папиросу, он вздохнул:
– Эдак-то вы, пожалуй, застрелите меня. Что ж вам еще осталось? Только одно: убить кого-нибудь. Тогда, может, и вздрогнете, закричите.
Он встал, налил вина и, стоя затылком ко мне, разглядывал вино на свет, досадно обыкновенный человек, в этот час – более обыкновенный, чем всегда. Так он стоял долго, пока я не догадался, что наступил обычный его припадок, провал в непонятное мне.
– Что с вами?
Он медленно обернулся, сел, выпил вино, вздохнул, закурил.
– Выдумали вы, батенька, всю эту внутреннюю канитель, – сказал он. – Выдумали, да! Это – для развлечения. Я – знаю это. Сам, иногда, лягу спать, а – не спится, и воображаю себя то отчаянным злодеем, то святым человеком. Забавляет. А чаще всего – фокусником, эдаким исключительным, эксцентрическим фокусником.
И вдруг, облокотясь на стол, оживленный, каким я его никогда не видал, Симонов начал рассказывать хриплым своим баском:
– Знаете, – чудеснейшим фокусником вижу я себя. Прежде всего: я выхожу на сцену в трико – понимаете? Как акробат. Никаких карманов!
Он улыбнулся улыбкой счастливого человека, глупо и смешно подмигнул мне.
– Вдруг в руках у меня утка. Я пускаю ее на пол, она ходит по сцене, крякает и – кладет яйца! Понимаете? Положит, а из яйца вылупился поросенок, положит другое, а из него – заяц, из третьего – сова, и так штук десять. Вообразите состояние публики, а? Все встали с мест, протирают глаза, смотрят в бинокли, – изумление! Все чувствуют себя дураками, а особенно – губернатор, каково губернатору чувствовать себя при публике идиотом, а? Вдруг – у меня две головы! Я закуриваю сигары, – две! Но – дыма нет, а потом дым идет из пальцев ног – воображаете? А по сцене прыгает заяц, бегает поросенок, дико вытаращенными глазами смотрит на людей ослепленная огнем рампы сова, еще какие-то животные мечутся, их становится всё больше – кавардак!
И, вытаращив бесцветные глаза, начальник охранного отделения Петр Филиппович Симонов, борец против революции, сказал с глубочайшим убеждением, почти с восторгом:
– Черт знает до чего можно одурачить людей! Черт знает как!
Слушая его нелепый бред, я чувствовал себя идиотом. Он не был пьян, пил не мало, но никогда не хмелел.
Я спросил его:
– Об этом вам и думается, когда вы вдруг точно засыпаете во время беседы, как будто проваливаетесь куда-то?
– Об этом, – сказал он, кивнув головою. – Это на меня находит внезапно. Как-то даже на докладе, в департаменте полиции, вдруг мне представилось, что я могу написать в воздухе пальцем мою фамилию огненными буквами. И – что ж вы думаете? Начал писать, вижу – выходит! Горят в воздухе перед лицом директора огненные буквы: Симонов, Симонов… Смотрю на директора и удивляюсь: неужели он не видит этого? А он спрашивает меня: «Что с вами? Вам дурно?» Испугался, конечно.
Тихонькое безумие сияло в глазах Симонова, и от этого лицо стало как будто значительнее.
Питая некую надежду, я спросил:
– А больше у вас ничего нет?
Он тоже спросил меня:
– Что вы хотите сказать?
Странно умер он: ночью часа два сидел со мною, совершенно здоровый, а в четыре часа дня умер в саду, лежа в гамаке.
Приходил товарищ Басов и с ним еще какой-то рыжий, с забинтованной головою:
– Не узнаёте меня, Карамора? – осведомился он.
Оказалось: один из тех, которым я устраивал побег. Не помню его. Их было трое в тюрьме.
Басов спросил: служил ли я уже в охране, устраивая этот побег? Глупый вопрос. По документам охраны они должны знать, что уже служил.
Поговорив со мною полчаса тоном праведных судей, – как и надлежало, – ушли.
Пожалуй, они оставят мне жизнь. Интересно: что я буду делать с нею? Вот тоже вопрос: жизнь дана во власть человеку или человек дан жизни на съедение? И чья это затея – жизнь? В сущности: дурацкая затея.
Да, я, служа в охране, разрешал себе устраивать товарищам маленькие удовольствия: побег из тюрьмы, побеги из ссылки, устраивал типографии, склады литературы. Но двурушничал не для того, чтоб, упрочив их доверие ко мне, выдавать их жандармам, а так, для разнообразия. Помогал и по симпатиям, но главным образом из любопытства: что будет?
Говорят, есть в глазу какой-то «хрусталик» и от него именно зависит правильность зрения. В душу человека тоже надо бы вложить такой хрусталик. А его – нет. Нет его, вот в чем суть дела.
Привычка честно жить? Это привычка правдиво чувствовать, а правда чувствований возможна только при полной свободе проявлять их, а свобода проявления чувств делает человека зверем или подлецом, если он не догадался родиться святым. Или – душевно слепым. Может быть, слепота – это и есть святость?
Я не всё написал, а всё, что написал, – не так. Но – больше писать не хочется.
Уголовные поют «Интернационал», надзиратель в коридоре тихонько подпевает им. У него смешная фамилия – Зудилин.
Была у нас в комитете пропагандистка, Миронова, товарищ Тася, удивительная девушка. Какое ласковое, но твердое сердце было у нее! Не скажу, чтоб она была красива, но человека милее ее я не видал. Почему я вдруг вспомнил о ней? Я ее не выдавал жандармам.
Поток мысли. Непрерывное течение мысли.
А что, если я действительно тот самый мальчишка, который только один способен видеть правду? «Король-то совсем голый, а?»
Опять лезут ко мне…
Надоели.
1924
