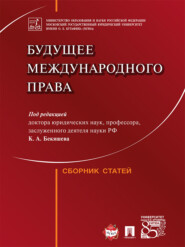
Полная версия:
Будущее международного права. Сборник статей
Концепция верховенства права изложена в Декларации тысячелетия ООН, принятой консенсусом на Саммите тысячелетия 8 сентября 2000 г. (п. 9), и детально раскрыта в докладах Генерального секретаря ООН. Российская Федерация последовательно выступает за укрепление правовых основ в международных отношениях, добросовестно соблюдает международно-правовые обязательства. Поддержание и укрепление международной законности – одно из приоритетных направлений ее деятельности на международной арене. Верховенство права призвано обеспечить мирное и плодотворное сотрудничество государств при соблюдении баланса их зачастую несовпадающих интересов, а также гарантировать стабильность мирового сообщества в целом.
Таким образом, главная цель верховенства международного права в международных отношениях, на мой взгляд, должна заключаться в следующем52.
1. Верховенство права относится ко всем субъектам международного права. Уважение и поощрение верховенства права должно служить руководством во всех аспектах их деятельности и обеспечивать предсказуемость и легитимность их действий.
2. Все акторы международного права обязаны соблюдать справедливые, беспристрастные и основанные на равноправии нормы и принципы международного права, без всякого различия, а также иметь право на равную защиту.
3. Все акторы международного права должны иметь равный доступ к системе международного правосудия. Государства обязаны принимать все необходимые меры для оказания справедливых, транспарентных, эффективных, недискриминационных услуг, которые способствуют доступу к системе международного правосудия для всех.
4. Верховенство международного права должно играть ключевую роль в предотвращении конфликтов и миростроительства и в разрешении постконфликтных ситуаций.
5. Верховенство права должно обеспечить непримиримое отношение к безнаказанности за геноцид, военные преступления и преступления против человечности или за нарушение норм международного гуманитарного права и грубые нарушения норм в области прав человека, а также надлежащее расследование таких нарушений и соответствующее наказание за них путем использования региональных или международных механизмов в соответствии с нормами международного права.
6. Верховенство права должно обеспечить укрепление международного сотрудничества во всех областях международных отношений на основе принципов общей ответственности и в соответствии с нормами международного права и способность ликвидации незаконных сетей и борьбе с наркотиками, транснациональной организационной преступностью, поскольку они создают угрозу международной безопасности и подрывают верховенство права.
7. Верховенство права должно способствовать ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, поскольку он является одной из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности. Все меры по борьбе с терроризмом должны соответствовать обязательствам государств по международному праву, в том числе Уставу ООН, конвенциям и протоколам в этой области.
Ключевым условием для достижения стабильности в международных отношениях является верховенство права. Министр иностранных дел РФ С. В. Лавров обратил внимание на то, что отход от этого принципа, какими бы благовидными предлогами он ни обставлялся, будет разрушать фундамент, на котором зиждется вся система международных отношений53.
Россия намерена: а) поддерживать коллективные усилия по укреплению правовых основ в межгосударственных отношениях; б) противодействовать попыткам отдельных государств или групп государств подвергать ревизии общепризнанные нормы международного права, отраженные в Уставе ООН 1945 г., Декларации о принципах международного права 1970 г., Заключительном акте Хельсинки 1975 г.; в) содействовать кодификации и прогрессивному развитию международного права, прежде всего осуществляемым под эгидой ООН, достижению универсального участия в международных договорах, их единообразному толкованию и применению; г) продолжать усилия по совершенствованию санкционного инструментария ООН, вести дело на коллегиальной основе после всесторонней проработки, прежде всего с учетом их эффективности для решения задач поддержания международного мира и безопасности и ненанесения ущерба гуманитарной ситуации; д) вести дело к завершению международно-правового оформления государственной границы Российской Федерации, а также границ морского пространства, в отношении которого она осуществляет суверенные права и юрисдикцию, при безусловном обеспечении национальных интересов России.
Как отмечает В. В. Путин, «мы выступаем за верховенство международного права при сохранении ведущей роли ООН»54.
А. И. Бастрыкин – председатель Следственного комитета Российской Федерации – высказался против верховенства международного права и предлагает исключить из п. 4 ст. 15 Конституции слова: «если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» и вписать положения о главенстве национального (российского) права55. Свое предложение А. И. Бастрыкин подкрепляет тем, что такие известные западные юристы-международники, как Кельзен, Лаутерпахт, Руссо, Джессеп, Ссель, исходили из полного подчинения национального права международному. По его мнению, концепция примата международного права после Второй мировой войны была навязана ФРГ, Италии, Японии и РФ.
С предложениями А. И. Бастрыкина нельзя согласиться по следующим основаниям.
Например, известный немецкий ученый Г. Кельзен всегда выступал за примат международно-правового порядка, т. е. права. В подтверждение этого тезиса я приведу следующую пространную цитату из работы Г. Кельзена: «Повсеместно, и в особенности сторонниками дуалистической концепции, допускается, что государства или, если избегать персонификации, государственно-правовые порядки скоординированы по отношению друг к другу, юридически разграничены по областям действия, особенно в территориальном аспекте. Это возможно только в том случае, если под отдельными государственными правовыми порядками предполагать существование некоего правового порядка, который их координирует и определяет пределы их взаимной компетенции. Этим высшим порядком может быть только международно-правовой – фактически, он таковым и является. Иными словами, данную функцию выполняют нормы позитивного международного права (курсив мой. – К. А.)». Далее Г. Кельзен высказывает еще одну важную мысль: каждое государство может действовать как аппарат принуждения только в тех пределах, которые закреплены за ним и гарантированы международным правом56.
Таким образом, Г. Кельзен однозначно признавал примат международного права.
В трудах Г. Лаутерпахта, например в книгах «Function of Law in International Community», 1933 и «An International Bill of the Rights of Man», 1945, я не нашел даже намека на отрицание верховенства международного права.
Напоминаю, что п. 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
В этом положении Конституции РФ идет речь о единстве национальных и международных норм, об обеспечении правопорядка путем имплементации норм международного права.
Я соглашаюсь с мнением Г. Кельзена в том, что «международно-правовые нормы, в особенности нормы, созданные через международные договоры, должны распространяться на все возможные предметы, включая и те, которые до этого ретушировались правовыми порядками отдельных государств»57.
Что касается США, то согласно ст. IV Конституции международное право составляет часть права страны. Все правообразующие международные Конвенции, ратифицированные США, обязательны для американских судов, хотя бы они находились в противоречии с более ранними нормами американского статутного права. Таким образом, согласно практике США, как международное обычное, так и конвенционное право стоит выше предшествующего ему внутреннего права, но при том условии, что нормы международного права не противоречат Конституции США. С этим положением трудно не согласиться.
По мнению А. И. Бастрыкина, примат верховенства международного права ограничивает суверенитет РФ. Это не так. Любое государство, в том числе и Россия, не подпишет договор, а тем более не ратифицирует его (именно такие договоры имеются в виду в п. 4 ст. 15 Конституции), если он будет в той или иной степени противоречить Конституции, возможно, и законодательству РФ.
VI. Международное право – динамично развивающаясясистема права
Под влиянием объективных событий, дальнейшего развития и углубления глобализации и расширения международного сотрудничества в международном праве сформировался ряд самостоятельных отраслей, прежде всего международное трудовое право и международное процессуальное право.
Международное трудовое право, считает Д. К. Бекяшев, это отрасль международного публичного права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения между субъектами международного права, касающиеся трудовых прав человека, занятости, условий труда, социального партнерства, социального обеспечения и трудовой миграции58. Нормы этой отрасли права кодифицированы в более чем 200 конвенциях и большом количестве двусторонних соглашений.
Кафедре международного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) принадлежит большая заслуга в обосновании становления международного процессуального права и определении его принципов и институтов. Международное процессуальное право – это совокупность принципов и норм, регулирующих порядок осуществления прав и обязанностей субъектов международного права, деятельности международных судебных и арбитражных органов59.
Справедливости ради отмечу, что еще в начале XX века видный советский юрист-международник Е. А. Коровин обратил внимание на наличие этой отрасли права. Однако под международным процессуальным правом он понимал только процесс разрешения и урегулирования межгосударственных споров60.
В последние годы заметно увеличилось количество межгосударственных объединений, например ЕАЭС, НАФТА, КАРИКОМ, БРИКС, САКУ, АТЭС и др. Правовой статус многих этих объединений наука международного права не определила. Проведенные рядом российских авторов исследования являются противоречивыми61. Они именуются по-разному: межгосударственное интеграционное объединение или межгосударственная организация62. В монографии, посвященной специально правовым механизмам АТЭС, правовой статус последнего не определен63.
Американские специалисты Г. Шаффер и Т. Гинзбург справедливо призывают к расширению научных исследований новых проблем международного права.
По их мнению, необходимы эмпирические исследования в области международного права. Как уже отмечалось в начале этой статьи, в научных трудах последнего времени наблюдается отход от теоретических споров и значимости международного права. Эти авторы пытаются сконструировать «условную теорию» международного права. (Conditional International Law Theory). С помощью этой теории авторы пытаются объяснить, как и при каких обстоятельствах функционирует международное право64.
В Российской Федерации и в других странах ведутся исследования актуальных проблем современного международного права, но не всегда можно согласиться с их предложениями. Отмечу некоторые из них.
Т. Р. Короткий предлагает новый подход к содержанию суверенитета: во-первых, суверенитет как внутреннее понятие есть высший политический авторитет как таковой; во-вторых, суверенитет в международных отношениях означает государственную самостоятельность в качестве субъекта внешней политики; в-третьих, суверенитет есть совокупность международных легально существующих свобод, которыми обладает государство в определенный момент времени. По его мнению, третье качество суверенитета может отторгаться, например, в связи с вступлением государства в интернациональное объединение. Именно на основе этого качества суверенитета, считает Т. Р. Короткий, каждое государство – член ЕС делегирует ему определенные национальные полномочия и наделяет его международной правосубъектностью65.
С таким предложением согласиться нельзя. В целом можно солидаризироваться с В. С. Хижняк в том, что «все идеи и теории, связанные с необходимостью максимального ограничения суверенитета, десуверенизации и т. д., навязываемые России через политику США и многих западноевропейских государств, не имеют ничего общего с необходимостью установления мира и безопасности в международных отношениях, защитой прав человека, борьбой с международной преступностью. Их цель – унификация мира в интересах мирового центра власти»66. Еще раньше известный политолог А. С. Ципко по этому вопросу высказался предельно конкретно: «Те, кто уничтожает суверенитет и достоинство своего государства, вольно или невольно работают на упрочнение державности и суверенитета его конкурентов. Средней позиции в этом вопросе о суверенитете нет»67.
Е. М. Примаков считал, что «в развитии интеграционного процесса на постсоветском пространстве не обойтись без наднациональных структур, в пользу которых должна отойти часть суверенитета государств-участников интеграционного объединения – без этой неизбежности интеграция застрянет лишь на начальном этапе»68.
Иного мнения придерживается президент Белоруссии А. Г. Лукашенко. По его мнению, в связи с созданием в 2015 г. Евразийского союза «никто свой суверенитет не ограничивает»69. Сказано справедливо и с международно-правовой точки зрения верно.
Некоторые ученые (В. М. Шумилов, Ю. Н. Малеев) предлагают наделить ООН полномочиями мирового правительства. Например, Ю. Н. Малеев пишет: «ООН должна принять на себя роль мирового правительства. Притом правительства – не исполнительного органа, как это имеет место в государствах, а самостоятельного надгосударственного института, не имеющего над собой иной власти»70.
Согласиться с таким предложением нельзя. Напомню в этой связи, что Международный суд ООН в своем консультативном заключении от 11 апреля 1949 г. со всей решительностью указал на то, что ООН «никак не является сверхдержавой» и не может быть мировым правительством.
Ю. Н. Малеев полагает, что «международное управление можно определить как внешнее управление наднационального характера делами данного государства, а также кризисной ситуацией или районом (ресурсами, деятельностью) в пределах международной территории общего пользования по договору между заинтересованными государствами или по решению международной организации»71. В полной мере с этим определением согласиться также нельзя. Во-первых, международное управление не является наднациональной функцией, поскольку над государствами нет и не может быть командующего органа верховной власти. Во-вторых, международное право не может управлять районом или ресурсами международной территории. В-третьих, нуждается в уточнении формулировка Ю. Н. Малеева «внешнее управление наднационального характера делами данного государства». Немыслимо себе представить, каким образом одно государство «наднационально» может управлять другим государством. В-четвертых, ни одна современная международная межправительственная организация не обладает наднациональными функциями в плане управления поведением государств – первичных субъектов международного права.
Многие годы одной из актуальных проблем является формирование и доказательство существования международного обычного права. Эта тема включена в повестку дня сессий Комиссии международного права ООН.
В. М. Шуршалов отмечал, что международный обычай – менее совершенный источник международного права, чем договор, соответственно обычная норма менее совершенна по сравнению с договорной нормой. Поэтому превращение обычной нормы в договорную путем включения ее в конкретные межгосударственные соглашения или путем ее кодификации содействует прогрессивному развитию международного права, поскольку такое развитие способствует более четкой регламентации прав и обязанностей государств, которые образуют содержание правоотношения, и вместе с тем обеспечивает укрепление законности и правопорядка в международных отношениях72.
Иного мнения придерживаются А. Н. Вылегжанин и Р. А. Каламкарян. Они считают, что в результате согласованного волеизъявления государств создаются нормы договорного и обычного характера. Однако государства непосредственно путем волеизъявления не создают обычные нормы международного права. Эти нормы вырастают из международной жизни. Государства, согласно ст. 38 Статута Международного суда, всего лишь признают международный обычай в качестве правовой нормы.
Еще в 1927 г. в деле «Лотус» (Франция против Турции) Постоянная Палата международного правосудия отметила, что обычай является обобщенной практикой государств. Последние должны осознанно признать ее обязательность.
Далее эти авторы пишут, что в современном международном праве нет оснований для построения соподчиненности между договорными и обычными нормами. Они равнозначны, взаимосвязаны, что не умаляет, однако, общей направляющей роли именно международного обычного права73. С этим суждением согласиться не могу. Вне сомнения, договорные нормы являются более приоритетными, нежели обычные. Например, в преамбуле Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. сказано, что «вопросы, не регулируемые настоящей Конвенцией, продолжают регулироваться нормами и принципами общего международного права».
В ст. 38 Статута Международного суда вначале указаны международные конвенции, а затем уже международный обычай. Трудно представить себе общую направляющую роль международного обычного права. Практика не подтверждает данное утверждение авторов.
Как отмечал В. М Шуршалов, в советской литературе господствовало то убеждение, что «обычай занимает второе место среди источников международного права и имеет меньшее значение по сравнению с договорными нормами»74.
Не могу не затронуть еще одну проблему – правосубъектность индивида в международном праве.
Еще в конце 20-х годов Постоянная палата международного правосудия в своем консультативном заключении по вопросу о юрисдикции Данцигских судов отметила, что государства могут путем договора предоставить отдельным лицам права на обращение в международные суды.
В 1947 г. крупнейший английский юрист-международник Л. Оппенгейм считал, что «хотя нормальными субъектами международного права являются государства, они могут рассматривать физических и иных лиц, как непосредственно наделенных международными правами и обязанностями, и в этих пределах их субъектами международного права»75.
В приговоре Нюрнбергского Международного военного трибунала 1945 г. говорится: «Преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными образованиями, и только путем наказания индивидов, совершающих такие преступления, предписания международного права могут быть принудительно осуществлены»76.
Ч. Лебен (Франция) не просто утверждает, что индивиды являются субъектами международного права, но и полагает, что договоры их, заключенные с государствами, также являются предметом регулирования международного права.
По его мнению, субъектами международного права являются все акторы, потенциально способные к защите своих прав, предоставленных им международным правом77.
Как справедливо отметил Г. В. Игнатенко, «предмет международно-правового регулирования приобретает новые, выходящие за традиционные границы очертания, что обусловлено внедрением в международные отношения участников, не обладающих государственно-властными свойствами, в их числе индивидов (физических лиц), действующих в качестве субъектов международного права от собственного имени или в согласии с государством»78.
В учебной литературе вопрос о правосубъектности индивида впервые был подробно мною изложен в учебнике МГЮА «Международное право» (М., 1996. С. 482–487). В настоящее время этой проблеме уделено соответствующее внимание во многих учебниках (Казанского университета, Университета Дружбы народов и др.).
Однако не все российские ученные считают индивида субъектом международного права, даже в ограниченном объеме. Но наиболее активным противником правосубъектности индивида является С. В. Черниченко. В своей фундаментальной по содержанию работе он пишет: «Если физические и юридические лица не имеют прямого выхода на международную арену, они не адресаты международного права (не его субъекты). Но если они не его адресаты (субъекты), то они не могут быть и участниками отношений, урегулированных международным правом (субъектами международных правоотношений)»79.
Не могу хотя бы кратко не коснуться точек зрения авторов о динамике развития международного права прав человека.
По мнению П. Спиро (Франция), если раньше международное право регулировало вопросы гражданства исключительно с точки зрения разрешения коллизии национально-правовых режимов, то в настоящее время нормы о запрете гендерной дискриминации, лишении гражданства усиливают давление на государства, все более ограничивают свободу государств самостоятельно решать вопросы, связанные с гражданством. П. Спиро, однако, отмечает, что как такового общепризнанного права на гражданство на данный момент не существует. Тем не менее автор приводит доказательства формирования нового международного права гражданства, которые с его точки зрения свидетельствуют о необходимости анализа института гражданства в контексте прав человека. Он подтверждает мнение тех ученых, которые трактуют гражданство как право, принадлежащее человеку.
П. Спиро считает, что формирование международного права гражданства может иметь далеко идущие последствия, в частности, снижения значимости гражданства как такового и разрушения солидарности, которая на данный момент является основой легитимности государств. Он оспаривает точку зрения, согласно которой дальнейшее развитие международного права прав человека повлечет за собой укрепление роли государства.
П. Спиро не отрицает того факта, что вопросы гражданства по-прежнему в большинстве случаев остаются в компетенции отдельных государств. Однако автор отмечает некоторые сдвиги в развитии международного права в этой сфере, которые не вписываются в типичную Вестфальскую систему. Все чаще в ходе обсуждения гражданства возникают вопросы о возможном отказе в присвоении гражданства, выдвигаются аргументы о справедливости предоставления гражданства лицам, постоянно проживающим на территории определенного государства. Эта практика, по мнению П. Спиро, подтверждает тенденцию к ограничению некогда абсолютной свободы государства в решении вопросов о предоставлении гражданства и стремлению учета интересов отдельных индивидов.
Эти новшества, пишет он, в значительной степени отступают от традиционного развития международного права, регулирующего исключительно случаи, в которых государство не имеет права предоставлять гражданство. Теперь же нормы международного права начинают диктовать, в каких случаях власти обязаны предоставить гражданство и какими правами в связи с этим обладают лица, постоянно проживающие на его территории. В заключение автор отмечает, что с развитием международного права гражданства исчезает «последний бастион» абсолютной свободы государства в вопросах предоставления гражданства80.
В целом с этим прогнозом о будущем международного права прав человека можно согласиться.
Я. Онума считает, что международное право прав человека связано с западно-ориентированной историей развития этой отрасли права. Он высказывается за необходимость избавления международного права от излишнего акцента на свободу и индивидуализм, основанных на европейском происхождении самой этой отрасли и развитии ее по западному сценарию, и учета религиозных и культурных особенностей различных народов мира.
Я. Онума высказывается за интегрированное понимание прав человека, закрепленное в Венской Декларации по правам человека 1993 г.81
В последнее время актуальной стала средневековая проблема борьбы с торговлей людьми (human trafficking)82. Она получила название «современное рабство» (modern day slavery) и вызвала стремительный рост международных, региональных, национальных актов, направленных на борьбу с этим преступлением, а также заставила государства направлять свои огромные финансовые и иные ресурсы на ее искоренение. По мнению Дж. Чуянга (США), это, в свою очередь, породило споры в среде ученых, призывающих к консолидации международного права прав человека, налогового права, деликтного права, трудового права, права здравоохранения, а также военной мощи в целях борьбы с усиливающейся международной преступностью и участившимися другими нарушениями прав человека83.
В соответствии с Протоколом ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющим Конвенцию ООН против трансграничной организованной преступности, принятой в 2000 году, следующие деяния подпадают под определение торговли людьми: акты вербовки, перевозки, укрывательства или получение людей путем угрозы силой или ее применения или другие формы принуждения, а также в целях эксплуатации.



