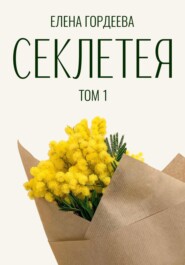скачать книгу бесплатно
Часть 1: Лита
1960-е годы, Тюменская область
Они жили на окраине поселка Луговской, на берегу великой сибирской реки Обь. Поселок возник в 1930 году, а его жителями стали раскулаченные семьи – так называемые спецпереселенцы[6 - Особая категория репрессированных лиц в СССР. Лицо, выселенное из места проживания преимущественно в отдалённые районы страны без судебной или квазисудебной процедуры.], которые были доставлены баржей на необжитой берег великой Оби. Рядом с тремя хантыйскими юртами из сырого сибирского леса мужики за лето построили несколько домишек, покрыли их соломенными крышами, сложили печки и к осени поселились по три-четыре семьи в одном доме. Зимовали тяжело, голодали, ходили в тайгу на зверя и ловили рыбу. В Белогорье выменивали рыбу на картошку и муку. А весной 1931 года стали разводить хозяйство, установили мельницы на реке и организовали колхоз.
Сорокатрехлетний доцент Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова Владимир Красицкий был репрессирован в 1950 году по так называемому «Ленинградскому делу»[7 - Серия судебных процессов в конце 1940-х (https://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5) – начале 1950-х (https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5) годов против партийных и государственных руководителей Ленинграда и РСФСР (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) в СССР (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA), в ходе которых им были предъявлены обвинения во вражеско-подрывной работе и коррупции, а также использовании служебного положения в личных корыстных целях.]. А в 1957 году был освобожден, но попал под «минус двенадцать»[8 - Запрет лицам, которые попали в ссылку после тюрьмы, проживать в двенадцати крупнейших областях, в том числе Московской и Ленинградской.], что означало запрет проживания в двенадцати крупных городах СССР. Так Владимир поселился в поселке Луговской, где ему было предписано проживать под надзором отдела ГПУ при НКВД РСФСР. Чтобы как-то прожить, он устроился фельдшером в поселковую больницу на мизерное жалование, где кроме него работало еще три врача.
По его инициативе при больнице было создано подсобное хозяйство, в котором были корова, овцы и две лошади. Врачи ездили на вызовы к больным в соседние деревни на лошади – зимой на санях, летом на телеге, а иногда и верхом. А корова и овцы помогали прокормиться самим, да и накормить больных, которые, как и врачи, были спецпереселенцами. Еще при больнице была своя лодка, на которой добирались до отдаленных поселений и юрт по протокам великой реки Ендырская, Малина и Агорная.
Обитатели поселка любили Владимира за скромность и интеллигентность, а благодарные пациенты дарили ему все, что сами могли добыть в тайге и в великой реке: рыбу, оленину, зайчатину, иногда куропатку или рябчика, а летом грибы и ягоды. Он жил при больнице: летом в маленькой каморке по соседству с коровой и лошадьми, а зимой – в больничной нише за печкой. В отдельные зимние дни температура воздуха падала ниже 40 градусов и в летней каморке Владимир просто бы замерз.
И тут в его жизни появилась дочь. У Владимира был короткий роман с идейной комсомолкой из Ханты-Мансийска, которая отвергала стыд как классовый предрассудок. В январе 1960 года она приехала в поселок Луговской на две недели по комсомольским делам. Они познакомились на политинформации в поселковом клубе. В тот день была очередь Владимира идти на политинформацию. После лекции были танцы под разбитое пианино. Школьная учительница музыки исполняла вальсы и танго. И Владимир, который редко посещал сельский клуб, заслушался вальсом «Амурские волны»[9 - Вальс композитора и дирижёра Макса Авельевича Кюсса, написанный в 1909 году.]. Комсомолка пригласила его сама, а он не стал отказываться.
Вальс закружил их, и Владимир двигался свободно, почти не чувствуя своего тела. Комсомолка была счастлива повторять за ним фигуры, его объятия обжигали ее. Когда музыка стихла, она вдруг подумала: «Какой танец, никогда я так не танцевала!» – и посмотрела не него влюбленными глазами. А потом они танцевали чувственное и надрывающее звуками танго «Брызги шампанского»[10 - Популярное танго начала 20-х годов Хосе Мария де Люкьеси.]. Движения Владимира были гармоничны и непринужденны, комсомолка тесно к нему прижималась, и со стороны они казались единым целым.
Она подарила ему ночь любви, а утром вдруг сказала:
– Ты необыкновенный. Давай поженимся.
– Ты испортишь себе карьеру, – ответил Владимир. – Тебе не нужно связывать свою жизнь со мной.
Она кивнула ему и исчезла так же внезапно, как и появилась.
Прошло почти два года, и Владимир начал забывать о комсомолке. Был чудесный теплый июньский вечер, и листья на березах возле больницы распустились за один день. Владимир возвращался от пациента из деревни Троица верхом на лошади. На скамейке в больничном парке он увидел маленькую девочку в летнем пальтишке. «Интересно, чья она, – подумал Владимир, – и где ее мама?». Он спешился и взял лошадь под уздцы, чтобы не напугать девочку. Комсомолка подошла к нему сзади и низким голосом сказала:
– Привет, как у тебя дела?
Он обрадовался и улыбнулся ей:
– Привет! У меня все по-прежнему.
– Я привезла тебе дочь, – сказала комсомолка, – твою дочь. Я скоро уезжаю на комсомольскую стройку, буду секретарем комсомола на Среднесибирской железнодорожной магистрали и девочку брать с собой не хочу. Пусть теперь она поживет с тобой.
– Как ее зовут? – спросил Владимир.
– А зови как хочешь, я ее никак не зову – не хочу к ней привыкать. Возьми ее, если нет, то я по дороге оставлю ее в детском доме поселка Горнофилинский. Я поплыву пароходом до Тобольска, а он как раз по дороге – там остановка на час. Мне времени хватит.
Девочка смотрела на него большими голубыми глазами, ее кудряшки развивались на ветру. И он подумал о том, что это Божий подарок за все его страдания и потери.
– У нее есть какие-то документы?
– Нет, я ее не регистрировала. В этой жизни ее как бы и нет.
– Хорошо, тогда пойдем, – и Владимир взял девочку на руки.
Девочка не испугалась и не заплакала. Они молча дошли до поселкового совета, где как раз сегодня работала его подопечная старушка Мария Ивановна – потомственная дворянка, которая обожала его.
– Мария Ивановна, я хочу сегодня жениться на этой девушке.
– Доставайте паспорт.
И он достал свой потрепанный паспорт.
Мария Ивановна не стала ему рассказывать о том, что, для того чтобы жениться, нужно пройти испытательный срок, который в те времена составлял ровно месяц. Она лишь ласково посмотрела на Владимира, потом перевела глаза на девочку и сказала:
– Пишите заявление … «прошу сократить испытательный срок и зарегистрировать наш брак в связи с тем, что у нас имеется общий ребенок».
Владимир так нежно посмотрел на комсомолку, что она стала подумывать о том, что ну ее, эту комсомольскую стройку…
– У тебя есть справка о ее рождении?
– Да, у меня есть такая справка, – и комсомолка достала потрепанную справку на желтой бумаге. Между тем заявление было написано, проверено, подписано женихом и невестой, и Мария Ивановна стала составлять актовую запись о браке. Она выводила буквы медленно и аккуратно, время от времени макая перо в чернильницу. Процедура тянулась долго, потому что Марии Ивановне пришлось заполнять от руки два экземпляра записи. Когда они удостоверили запись о браке подписями, Мария Ивановна поставила им в паспорта штамп о браке и спросила: «А как зовут вашу дочь?». Владимир почти не думал, он назовет ее Секлетеей в честь самой любимой и самой желанной женщины – его жены, которая так внезапно покинула этот мир в период расследования «Ленинградского дела», не выдержав страданий.
Комсомолка удивилась: она раньше не слышала о таком женском имени. А Мария Ивановна сказала:
– Какое замечательное и редкое имя! Секлетея по-гречески – это известная женщина или жена сенатора.
Комсомолка поежилась, потому что ей не понравилось слово «сенатор».
– Сенатор – неправильное слово. Cкажите, что она жена коммуниста.
– Пусть будет коммуниста, – сказала Мария Ивановна и принялась старательно выводить имя девочки в актовой записи о рождении. Когда счастливые родители подписали и эту актовую запись, Мария Ивановна каллиграфическим почерком уставного славянского письма[11 - Почерк с чётким угловато-геометрическим рисунком.] заполнила свидетельство о рождении Красицкой Секлетеи Владимировны.
– Ну, такое событие нужно отметить, – сказала Мария Ивановна и достала бутылку советского шампанского, которую уже давно хранила для особого случая.
Владимир так элегантно с легким хлопком откупорил бутылку и разлил шампанское по хрустальным бокалам, что комсомолка уже решила на стройку не ехать.
– Я теперь замужем и у нас ребенок. Не поеду никуда, – прошептала комсомолка и маленькими глотками осушила бокал.
Владимир все время держал девочку на руках: она устала и уснула, и он боялся тревожить ее.
– Ну куда же вы пойдете с такою крохой? – спросила Мария Ивановна. – Может быть, ко мне?
Мария Ивановна жила в крошечном доме на окраине поселка совсем одна. Ее муж построил эту избу с одной комнатой и печкой посередине еще перед войной, а потом умер от пневмонии. Мария Ивановна с тех пор жила одна и думала: как хорошо бы ей тоже умереть. Но все жила и жила, а потом полюбила поселок, великую реку и протоки, высокие кедры и даже полюбила свою работу, где составляла важные документы редким каллиграфическим почерком.
– Спасибо, Мария Ивановна, – сказал Владимир и так нежно взглянул на Марию Ивановну, что комсомолка стала ревновать. – Моя жена завтра утром уезжает: ее назначили руководителем на Среднесибирскую железнодорожную магистраль, и ее ждет большое будущее. Пойдемте, я оставлю у вас мою дочь. Сегодня такой счастливый день, я хочу гулять с моей женой всю ночь и провожу ее до баржи. Баржа идет в пять утра, осталось немного времени.
И он налил им еще по бокалу шампанского, а Мария Ивановна принесла шоколадные конфеты.
Когда Владимир и комсомолка вышли от Марии Ивановны, было уже два часа ночи – северной белой летней ночи и из великой реки уже поднималось солнце. Они прошли поселок и вышли на пристань.
– Может быть, ты хочешь поспать? – спросил Владимир, глядя на нее восторженно искрящимися глазами.
– Да, немного, – сказала комсомолка и уснула на деревянной убогой лавке. Владимир взял ее паспорт и аккуратно вырвал страницу со штампом.
В 5 часов на горизонте показалась баржа, заслоняя черным дымом солнце и великую реку. Владимир легко потряс комсомолку за плечо: «Пора, моя дорогая. Вот и баржа». Он очень нежно поцеловал ее; она, счастливая, села на баржу и долго махала ему платком. Потом комсомолка вздохнула и подумала: «Какой красивый был день, но меня ждут великие дела на Среднесибирской железнодорожной магистрали, и мое имя впишут в золотую летопись строителей коммунизма».
1967 год, Ханты-Мансийск
Из раннего детства Секлетея помнила маленькую комнату с обмазанной глиной печью и мутное окно, в которое редко проникал свет. Рядом с печкой стояла ее кроватка, с другой стороны – отцовский диван, а напротив – сколоченный из досок стол с небольшим шкафом, в котором хранились продукты и нехитрая кухонная утварь. Самыми диковинными были плетеное кресло, сундук и старинная резная этажерка, которая вся была уставлена научными и художественными книгами. Вечером при свете керосиновой лампы этажерка напоминала двух лебедей, хлопающих большими белыми крыльями, а сундук – крошечный утес посреди моря.
Секлетея ждала вечера и представляла, как лебеди долетели до утеса и стали прекрасными принцами. Она засыпала под треск горящих в печи дров, но к утру печь остывала и в комнате становилось холодно и темно. Секлетея не любила утро еще и потому, что отец уходил на работу и на какое-то время она оставалась одна. Потом приходила хантыйка Эви, которая служила в отцовской больнице нянечкой. Она растапливала печь, готовила завтрак, одевала Секлетею в меховой мешок из оленьей шкуры, сажала на санки, и они ехали к роднику за водой. Когда в морозные дни родник замерзал, Секлетея сидела в мешке на санях, а Эви собирала в ведро пушистый и сухой снег, который они потом топили на раскаленной печке. Темнело быстро, Секлетея доедала оставшуюся от завтрака кашу и начинала ждать отца. Между тем Эви готовила обед и купала Секлетею в алюминиевом корыте.
Когда отец возвращался, Эви уходила. Отец сам накрывал на стол: стелил белую скатерть, ставил тарелки и приборы и зажигал керосиновый фонарь «летучая мышь». А после обеда наступало любимое время Секлетеи, потому что отец читал ей сказки про королей и принцев, про диких лебедей и гадкого утенка, про стойкого оловянного солдатика, про царя Салтана и золотую рыбку. Особенно ей нравились сказки в стихах, которые она быстро выучила наизусть. У нее почти не было игрушек: из кедровых шишек отец смастерил ей куклу и медведя, а жена местного охотника подарила ей маленького зайчика из остатков настоящей заячьей шкурки. Она ставила фигурки на печку и представляла, как они все приехали на бал. Как можно было приехать на бал без платья, она не понимала, потому что в ее книгах картинок не было, и она думала, что балы проводятся на поляне среди высоких кедров.
Секлетея очень любила отца. Сначала она не знала, что кроме отца должна быть и мать. Потом она думала, что ее мать – это Эви. Она укладывала ее спать, когда отец задерживался у больного, и Секлетея постепенно привыкла и привязалась к ней. Перед сном Эви пела ей песни на хантыйском языке, и она стала понимать немного по-хантыйски. Особенно ей нравились песни про священную весну, про трех оленей и про пин юган – священное солнце.
Снег на короткое время таял, вырастали разноцветные лишайники – наступало благодатное время, когда днем и ночью светило холодное северное солнце. В такие дни вечером этажерка становилась балконом замка, а сундук – волшебной дверью в сказочную страну. По выходным отец вставал рано и уходил в тайгу собирать травы, грибы и ягоды. Иногда он брал ее с собой, сажал на плечи или привязывал к себе куском материи. Потом они вместе перебирали добычу, сушили грибы и травы, а из ягод Эви варила ароматное варенье. Секлетея была очень счастлива: она считала себя лесной принцессой, отца – таежным королем, а Эви – придворной дамой.
Однажды она спросила отца:
– А где моя мама?
Он улыбнулся и ответил:
– Дорогая Секлетея, ты – лесная принцесса, а твоя мама – лесная королева, она очень занята, ведь она отвечает за все деревья в нашем лесу. Твоя мама защищает тебя, Эви и всех жителей поселка от лесных разбойников. Она придет к нам на Рождество в самую длинную ночь в году.
И Секлетея ждала Рождества, старалась не уснуть, а когда проснулась утром, отец сказал:
– Мама приходила, но ты уже уснула. Она оставила тебе подарок, – и протянул ей фарфоровую куклу с длинными белыми косами в клетчатом платье и оранжевой шляпе.
Секлетея была счастлива, ведь ее мама – королева леса – подарила ей самую красивую куклу в мире. Куклу назвали Наташей, а Эви сшила ей целое приданое – праздничный хантыйский кафтан и меховую пелерину.
Однажды вечером отец посадил Секлетею на колени и сказал: «Я уеду ненадолго, но взять тебя с собой не могу. Ты останешься с Эви». Когда утром она проснулась, отца уже не было, и это было ее первым детским горем. Эви как могла развлекала ее: старалась вкусно накормить и пела песни, но Секлетея грустила, а вечером отворачивалась к стене и слезы душили ее. Она не хотела обижать Эви и старалась не плакать при ней. И, чтобы как-то утешить ее, Эви принесла из больницы маленького пушистого котенка, и они вместе назвали его Барсиком. Котенок быстро подрастал, и Секлетея с ним не расставалась: они вместе спали и ели из одной тарелки, а когда вечером Эви пела, Барсик мурлыкал и грациозно кувыркался.
Отец вернулся с подарками: он привез Секлетее два новых платья – повседневное и выходное, маленькие коричневые туфельки и сумочку. А вечером он сказал:
– Мы скоро поедем на корабле, а потом на поезде и приедем в большой город, где у тебя будет много друзей. Мы будем жить во дворце с электрическими фонарями, и наша комната будет высоко над землей. Там ты пойдешь в школу вместе с другими мальчиками и девочками.
– А как же моя мама? Она узнает, что мы уехали на поезде?
– Твоя мама – лесная королева, она не может жить в городе. Но она мечтает о том, чтобы ты училась и жила в городе, где мы с ней родились и закончили школу. Мама будет приходить к тебе на Рождество и дарить подарки.
А когда отец согласился взять с собой Барсика, она совсем успокоилась и стала собирать в дорогу куклу Наташу и маленького зайчика. Эви напекла им пирогов с брусникой и грибами, положила в корзинку маленькую баночку варенья и подарила Секлетее хантыйский оберег с орнаментом серхайн юх, что означало «цветущий куст». «Не забывай меня, моя любимая девочка, – на прощание сказала Эви, еле сдерживая слезы. – Береги серхайн юх. Когда ты вырастешь, он принесет тебе счастье».
Отец разбудил ее на рассвете, и они долго шли через весь поселок к пристани на великой реке Обь. На барже отец устроил их с Барсиком под тентом, возле капитанской рубки, и они поплыли в Ханты-Мансийск к месту слияния Оби и Иртыша.
В Ханты-Мансийске нужно было ждать теплоход из Салехарда, и отец повел Секлетею в кинотеатр «Художественный» – так называемый Дом народов Севера – на утренний сеанс. Она впервые увидела фильм на большом экране, и это была «Золушка». Секлетея влюбилась в принца, возненавидела мачеху и с грустью подумала о том, что у Золушки не было мамы. «Я тоже хочу такую же крестную, как у Золушки», – сказала она отцу. Потом отец купил ей невероятно вкусное мороженое, и она стала мечтать о том, как они будут жить с отцом и крестной в большом дворце с электрическими фонарями. Потом она, переполненная впечатлениями, уснула на руках у отца и проснулась уже на пассажирском теплоходе «Римский-Корсаков».
Они заняли отдельную каюту с окном и умывальником и пошли гулять по палубам. Отец рассказал ей сказку про две великие сибирские реки: Обь и Иртыш. «Ты родилась на великой реке Обь, а сейчас мы плывем по Иртышу. Он течет с горы, на которой много золота, серебра и драгоценных камней, и, чтобы принести все эти подарки красавице Оби, Иртыш роет гору и землю, и люди зовут его «землероем». Секлетея вглядывалась в темные воды реки и мечтала, что проплывет мимо нее драгоценный камень – такой же, как в короне у крестной.
Вечером отец надел на Секлетею выходное платье и туфли, заплел в две тонкие косички голубые ленты и повел ужинать в ресторан.
Ленинград, Саратов 1930 – 1950 годы
Владимир очень устал за день, но, несмотря на убаюкивающий шум воды, сон не шел к нему. Он навсегда покидал место своего заточения. Два месяца назад после многочисленных отказов он, наконец, получил разрешение на проживание в Москве. Все время жизни в Сибири он старался не думать о счастливой юности, женитьбе на любимой женщине, о работе в университете, о многочисленных победах и успехах. Владимир заставил себя забыть и как бы отрезал от себя ту очень радостную часть жизни. Когда появилась Секлетея, он все время посвящал только ей, работал по инерции и даже ночью спал урывками, потому что все время боялся за ее здоровье и спокойный сон.
И сейчас он мысленно зачеркнул время, прожитое в тюрьме и на поселении, и почувствовал, что в нем нарастает какая-то неведомая раньше сила. Он вышел на палубу, встал на носу корабля против ветра, и ему показалось, что он парит над рекой. И вдруг он явно вспомнил свой детский сон: он сначала отталкивался от асфальта, а потом летел над Мойкой, и весь свой сон он боялся зацепиться за трамвайную контактную электрическую сеть. Даже во сне он опасался летать над Невой, потому что река была такой широкой и полноводной, что можно было не долететь. И вся его счастливая прошлая жизнь пронеслась перед ним, и ему стало казаться, что он опять в Ленинграде. Он даже вспомнил вкус булочек и запах кофе в кондитерской на Невском.
Владимир родился в Москве в 1916 году в Брюсовом переулке. Его мама в то время жила у своих родителей вместе с младшей сестрой. А отец Владимира работал в Петербурге инженером на Николаевском вокзале и жил на снятой недорого на год вперед квартире. Получив за женой очень приличное приданое, он купил квартиру в новом доме номер 63 на Большой Морской улице, именно в том месте, где Большая Морская выходила на Мойку. Квартира располагалась на третьем этаже в третьем подъезде, а из окон гостиной и кабинета был замечательный вид на реку. Но квартира была не готова: дом только достраивался, поэтому маленький Владимир с мамой оставался в Москве.
После революции отец Владимира как буржуазный специалист[12 - Образованные представители буржуазного класса, которые после Октябрьского переворота 1917 года стали сотрудничать и работать в коммунистических организациях и институтах.] стал сотрудничать с новой властью, пережил один в Петрограде тяжелые 1918 и 1919 годы, а в начале 1920 года перевез из Москвы семью в кое-как обжитую квартиру на Большой Морской. Они жили трудно, голодно, но очень счастливо.
В 1924 году отец отвел Владимира в мужское училище на проспекте Маклина, которое работало по так называемой «петроградской модели»: в их классе на первой ступени обучения[13 - Первая ступень обучения в период 1917 – 1930 год – это аналог начального образования, вторая ступень – аналог неполной средней школы.] не было девочек. Тенденции к совместному обучению, которые тогда главенствовали в СССР, повлияли на то, что, когда Владимир учился на второй ступени, в классе уже было четыре девочки.
Утром с мамой они шли до училища: сначала через Поцелуев мост, потом через Матвеев мост по набережной Мойки до проспекта Маклина, который мама всегда называла Английским проспектом (в советское время он был переименован в проспект Маклина – прим. ред.). Владимир очень любил Ленинград: этот город влиял на него, формировал его характер. Он избродил все набережные и улочки центра Ленинграда, а особенной радостью были для него прогулки по проходным дворам.
Летом они жили с мамой на даче в Сестрорецке, которая отцу полагалась по службе. К ним приезжали бабушка и мамина младшая сестра, и они дружно опекали Владимира. Отец приезжал в Сестрорецк по выходным, так что Владимир воспитывался в женском царстве.
В 1935 году Владимир по наущению отца поступил в Ленинградский университет на биологический факультет. На занятия в здание Двенадцати коллегий на Университетской набережной Васильевского острова он любил ходить пешком. Он увлекся физиологией и часто по вечерам работал в лаборатории, где изучал жизнедеятельность микробов и микроорганизмов. Когда в летние ночи разводили мосты, он любил работать до утра, а потом, усталый и счастливый, шел домой завтракать. А во время осенних и весенних наводнений он приносил домой рыбу, которая оказывалась в их лаборатории, когда отступала вода. Мама по просьбе Владимира варила из рыбы суп, который они называли лабораторным, и вечером они вместе с отцом ели его на ужин.
Уже на первом курсе Владимир привлекал внимание девушек. Высокий, голубоглазый, спортивный и интеллигентный, юноша не мог не понравиться. В Сестрорецке мама водила его в теннисную секцию, и к семнадцати годам он уже неплохо играл. Его даже приглашали выступать в студенческих соревнованиях. Недалеко от университета в Академическом саду были три теннисных корта и кирпичная стена для тренировок. Между лекциями он часто играл в теннис в паре с очередной влюбленной в него однокурсницей. Владимир был очень внимателен: учил девушек играть, показывал упражнения у стенки, и за это они еще больше обожали его. Вечером в саду были танцы под духовой оркестр, и Владимир, который, в отличие от многих сокурсников, умел танцевать вальс, имел там особенный успех. А зимой они катались на коньках по Финскому заливу и каналам, ходили в театры и на концерты, а также на научные вечера в Университете, которые заканчивались концертом или танцами.
На третьем курсе Владимир увлекся вирусами и написал свою первую студенческую работу, по материалам которой выступил с докладом в Петровском зале университета на студенческой конференции. На него обратил внимание профессор Виноградов, который в то время набирал студентов для создания прививки от коклюша. Владимир стал самым молодым ученым в группе профессора Виноградова: уже на четвертом курсе под руководством профессора вел со студентами лабораторные занятия и помогал ему проводить опыты с микробами.
В его беззаботной жизни случались встречи с некоторыми доступными девушками без комплексов. Но он сразу им говорил о том, что посвятит жизнь науке и не хочет жениться, чтобы не связывать себя. Но девушки все равно кружили вокруг него, надеясь на то, что он переменит свое мнение о женитьбе.
В 1938 году внезапно умер отец. Однажды он пришел с работы очень расстроенным. Мама сказала, что на партийном собрании к работе отца предъявили претензии и постановили проводить расследование. Мать как могла успокаивала отца, поила его травяным чаем, и к полуночи он уснул тяжелым сном. Мать легла в гостиной, потому что не хотела его беспокоить, а утром нашла его бездыханным и уже холодным.
После смерти отца их уплотнили. В их квартиру подселили железнодорожного рабочего с женой, что не очень понравилось маме. Владимир с рабочим старался не общаться и поэтому стал приходить позднее обычного.
В 1941 году весной Владимир окончил университет с красным дипломом и без экзаменов был принят в аспирантуру к научному руководителю профессору Виноградову.
Когда началась война, Владимир по комсомольской путевке без отрыва от аспирантуры был направлен вести курсы первой медицинской помощи, а потом и для организации работы станций переливания крови. К середине июля 1941 года он совсем переехал на кафедру и только один или два раза в неделю ночевал дома.
Когда был издан указ об эвакуации его лаборатории в тыл в Казань, они как раз заканчивали важную серию исследований по вакцинам. Владимир хотел уйти добровольцем на фронт, но профессор Виноградов настоятельно просил его завершить исследования, потому что многое было завязано на нем.
Владимир подчинился, собрал мать, которая была у него на иждивении, и 29 июля эшелон с оборудованием и сотрудниками эвакуированных университетских лабораторий отправился в тыл в Казань. Однако в Казани лаборатории не предоставили помещений, и местопребыванием эвакуированных лабораторий стал город Елабуга. Владимиру очень понравился старинный русский город, расположенный на берегу Камы. Их с матерью поселили в маленькой келье бывшего женского монастыря в центре города.
Владимир работал по 20 часов в сутки: размещал лабораторию, снабжал ее электроэнергией, обеспечивал сохранение исследовательской документации и редких книг, а в сентябре стал добывать топливо для их кельи. В перерыве между работой он вылавливал огромные бревна, которые плыли по Каме – они с матерью их распиливали, а он потом колол.
Профессор Виноградов получил новое задание: его группа была назначена ответственной за решение проблемы переутомления человеческого организма, которая в условиях военного времени имела особенно важное значение. Владимир продолжал заниматься исследованиями по коклюшу, помогал профессору в его новой работе и по вечерам дежурил в госпитале. Иногда он говорил профессору: «Вот на мне проводите исследования переутомление организма. Я, молодой здоровый парень, так устаю, что все время хочу спать».
В ноябре 1942 года их лаборатория переехала в Саратов. Владимир уехал один, потому что боялся за мать: Саратов был прифронтовым городом, и ему предложили только койку в общежитии. Мама оставалась одна в Елабуге, и на семейном совете было решено выписать к ней младшую сестру, которая только что вернулась в Москву из эвакуации.
В Саратове было еще больше работы: Владимир проводил исследования в Саратовском медицинском институте и двух госпиталях. Профессор Виноградов поручил ему разрабатывать тему восстановления функций нервной системы, нарушенных в результате военных травм. А весной 1943 года профессор сформулировал тему кандидатской диссертации Владимира «Закрытие травм головного мозга и травмы периферических нервов[14 - Периферическая нервная система – условно выделяемая часть нервной системы, находящаяся за пределами головного и спинного мозга.]».
Но наукой Владимир занимался урывками: он вместе с другими сотрудниками университета строил оборонительные сооружения в дни Сталинградской битвы. Дважды он проехал по Алтынной горе, которую в Сталинграде называли «дорогой жизни». На видавшей виды полуторке они вывезли из Сталинграда и потом спасли 28 раненых бойцов. С замиранием сердца он слушал сообщения из Ленинграда, но все масштабы блокады понял, только вернувшись в Ленинград в мае 1944 года.
24 февраля 1944 года в театре оперы и балета в Саратове праздновали 125-летие Ленинградского университета. На сцену выставили декорацию, изображавшую здание Двенадцати коллегий, прошло торжественное заседание коллектива Ленинградского Университета и награждение его орденом Ленина. А потом в фойе устроили танцы под духовой оркестр.
Она вошла в театр со служебного входа, сняла валенки и надела туфли. На ней было суконное черное платье, закрытое до шеи, а ее тонкие пепельные волосы были собраны на затылке в пучок. Она стояла у колонны и робко и застенчиво смотрела на танцующих.
Владимир как раз заканчивал вальс с веселой медсестрой, которая много болтала и шумно смеялась. Она стала намекать ему, что неплохо бы продолжить вечер, но ему не хотелось продолжать с ней, и он как всегда в таких случаях стал ссылаться на неотложные дела. Вдруг он увидел скромную и замкнутую девушку, и ему показалось, что от нее исходит причудливый и почти сверхъестественный свет.
Он подошел к ней и пригласил на танго. Она согласилась. Он обнял ее, она стала двигаться в такт музыке, и вдруг в нем пробудились какие-то новые чувства. Он произнес:
– Как вас зовут? – его голос задрожал, а в горле пересохло.