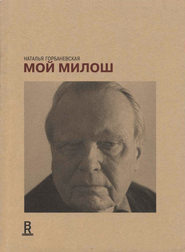скачать книгу бесплатно
Их слабый смех в густой постели мрака.
Ни жалость одолеть он не умеет,
Ни выразить их общую судьбу.
Рабочий и простая поблядушка
Перед ужасным восходящим солнцем.
И, может, поразмыслит он позднее,
Что стало с ними в днях или веках.
III. Дух истории
Когда со статуй краска опадает,
Когда законов буква опадает,
Сознанье голо, как зеница ока.
Когда на сталь, на съёженные листья
Летят огнем из книг сухие листья,
Добра и зла ничем не скрыто древо.
Когда на грядках гаснет крыл холстина,
Когда трещит железо, как холстина,
Солома остается да навоз.
По колким стежкам, в рощах мазовецких,
В песке меж Губернаторством и Рейхом,
Ступают ноги плоские крестьянки.
Пристанет, на сосёнку обопрется,
Занозу вынет из подошвы пыльной,
И масляный брусок в тряпице мокрой
Музейный слепок снимет со спины.
У переправы бой, квохтанье кур,
Из кузовков повысунулись гуси,
А в городах прочиркивают пули
По плитам, по кисетам с табаком.
И в пригороде, в глиняном карьере,
Всю ночь кончается старик-еврей,
Лишь на рассвете вой его утихнет.
Седая Висла омывает лозы
И сносит камешки, катясь широко.
И хлюпают колеса парохода,
Набитого мешочниками. Шест
В теченье тычет Стасек или Генек,
Покрикивая: «Метар! Метар двадцать!»
Где дым от крематория клубится
И где по деревням звонят к вечерне,
Гуляет Дух Истории довольный.
Милы ему после потопа страны,
Готовые принять любую форму.
Мелькает на задворках та же юбка
В Аравии, и в Индии, и в Польше.
Он по небу распластывает пальцы.
Под ними едет на велосипеде
Организатор сети контрразведки,
Кругов военных лондонский посланец.
Внизу, как жито, мелки осокори,
Ведущие от дома до усадьбы,
А там сидят, усталые, в столовой
Ребята в офицерских сапогах.
Усы возниц запорошило пылью.
Поэт его узнал уже, увидел,
Злобога, у которого во власти
И время, и судьба поденок-царств.
Его лицо размером в десять лун,
На шее бусы из голов кровящих.
Кто не признал его – жезлом задетый,
Заговорится и утратит разум.
Кто поклонился – будет лишь слугою,
Ему презреньем господин отплатит.
Венки лавровые, лужайки, лютни!
Куда вы делись, дамы и князья!
Вас можно было распотешить лестью,
В припрыжке ловкой кошелек словить.
Он жаждет большего – души и плоти.
Кто ты, властитель? Долги эти ночи.
Не ты ли ведом нам как Дух Земли,
Что сбрасывает гусеницу с груши
На прокормленье черному дрозду?
Что дохлыми жуками устилает
Постельку луковицы гиацинта?
Губитель, ты и он – одно и то же ль?
Он, неотступный, он, товарищ верный.
Как часто нашей он водил рукою
По гладкой шее и спине деви?чьей,
Когда бредут в июльский вечер пары
Лугами к озеру под запах сосен,
Гармоника наигрывает небыль
Про острова влюбленных в океане.
Теперь мотив забыт, и вспомнить страшно.
Как часто он же нам, краса и слава,
Ликующий тетеревиный клич,
Иронией умел скривить улыбку,
Нашептывая, что весенний воздух,
Трель соловья и наше вдохновенье —
Всего лишь его щедрая наживка,
Чтоб совершалось продолженье рода,
Что кровь остынет и, покрыты ржою,
В гниющем пурпуре мы погрузимся
В тот прах, что миллионы лет копился,
Где нас заждался прадед-питекантроп.
Скажи, в разумном гегелевском фраке
Любитель диких ветреных сторонок,
Ты что же, имя поменял – и только?
Подпольные листки в холщовой сумке.
Поэту слышен смех его могучий:
Я в наказанье разума лишил их.
Никто не встанет мне наперекор.
Где слово, что грядущего достигнет,
Где слово, что спасет людское счастье,
Которое так пахнет теплым хлебом,
Когда язык поэзии не знает
Того, что выпало потомкам поздним?
Мы не обучены, не представляем,
Как слить Свободу и Необходимость.
К двум крайностям во сне клонится ум.
Погибель неземных и осиянных:
Ища небес, материю презрели.
В ней радость, сила жизни и тепло.
Погибель грузных и благоразумных:
Рассветную звезду во лжи утопят —
Тот дар, что выше смерти и природы.
Подпольные листки в холщовой сумке.
Крошится пропагандная поэма.
Не зная, что к чему, звучит фальшиво.
От сильных чувств поэзия смолкает,
Еще твердит далекие призывы,
Но содержание ей не в подъем.
В наш век есть то, чего не увидали
Двадцатилетние варшавские поэты, —
То, что идеям сдастся, не Давидам
С пращою. У больничного порога
Вот так стремишься только раз, последний,
Понять и смех детей, и птичье пенье,
Пока еще не заперты ворота,
И, к завтрашним решеньям равнодушный,
Ты цепко верен нынешней минуте.
Над старой баррикадой не вставали
Народов зори и заветы предков.
Стояла раненая Богоматерь
Над желтым полем и венком полегших.
Те юноши растерянно касались
Стола и стула утром, словно в ливень
Нетронутый находишь одуванчик.
Для них дробились в радугу предметы,
Размытые, как в отошедшем прошлом.
Возможность славы, мудрости, покоя
Они своей молитвой отвергали.
Все их стихи – о мужестве молебен:
«Когда мы будем изгнаны из жизни,
Наш дом златой, в постель из малахита
Ты на ночь нас – на вечную – прими».
И ни один герой у древних греков
Не шел на битву так лишен надежды,
Воображая свой бесцветный череп,
Откинутый ботинком равнодушным.
Поляком или немцем был Коперник?[21 - В 1943 Третий Рейх торжественно праздновал 400-летие со дня рождения «великого немецкого ученого» Николая Коперника. В знак протеста молодые поэты из группы «Искусство и нация» решили возложить венок к памятнику Коперника. Памятник охранялся – именно во избежание манифестаций польского патриотизма. Венок возложил Вацлав Боярский, Здислав Строинский делал фотографии, Тадеуш Гайцы с пистолетом прикрывал операцию. Уходя от погони, Боярский наткнулся на патруль и был смертельно ранен – он умер в тюремной больнице. Арестованный Строинский успел уничтожить пленку, а затем и доказать, что он, провинциал, в Варшаве оказался случайно и ни к чему отношения не имеет. Освобожденный через несколько месяцев после ареста, он погиб в 1944 во время Варшавского восстания в один день с Гайцы. Анджей Тшебинский, поэт, прозаик и драматург, был в первую очередь теоретиком этой группы, патриотизм которой доходил до велико-польского шовинизма и имперской идеологии и приводил к проповеди утилитарного искусства. В 1944 Тшебинский попал в облаву и был расстрелян в развалинах варшавского гетто. Чтобы расстреливаемые не могли кричать, им заливали рты гипсом.Кшиштоф Камиль Бачинский (не примыкавший к группе «Искусство и нация», но так же, как и вышеназванные поэты, боец Армии Крайовой) был, несомненно, самым многообещавшим поэтом этого поколения. После смерти его сравнивали с Юлиушем Словацким. Все эти поэты погибли в возрасте 22—23 лет. Милош во время оккупации хорошо знал всю эту молодежь, составлявшую, как и он, часть подпольной культурной жизни Варшавы. (Многие страницы дневника Тшебинского посвящены полемике с Милошем: идейное несогласие борется с восхищением.) В 1958 Милош написал стихотворение «Баллада». Вот строки из него:Под землею Гайцы, под землею,Уж навеки двадцатидвухлетний.И без глаз он, и без рук, без сердца,Ни зимы не знает и ни лета.…………………………Под землею Гайцы – не узнает.Что Варшава битву проиграла.Баррикаду, на которой умер,Разобрали треснутые руки.– Говорят, сынок, стыдиться надо,Не за правое, мол, дело бился.Мне ли знать, пускай Господь рассудит…(Теперь я перевела стихотворение целиком. См. с. 114 наст. изд. – НГ-2011.)]
У памятника пал с венком Боярский.
Должна быть жертва чистой и бесцельной.
Тшебинский, этот новый польский Ницше,
Шел на расстрел со ртом, залитым гипсом,
Запомнил стену, медленные тучи,
Секунду глядя черными глазами.
Бачинский пал ничком, лицом к винтовке.
Восстание спугнуло голубей.
Строинский, Гайцы были взнесены
В багрянец неба на щите разрыва.
С гусиных перьев капелькой чернильной
Свет дня еще под липой не скатился.
Все тот же в книгах царствовал порядок,
Уверенный, что зримая краса
Есть зеркальце для красоты творенья.
В полях живые от себя самих
Бежали, зная, что столетье минет,
Пока вернутся. Впереди зыбучий
Песок, где превращаются деревья
В ничто, в анти-деревья, где границ
Нет между формами, где напрочь рухнул
Тот дом златой, то слово б ы т и е,
И – с т а н о в л е н ь е с этих пор у власти.
Им шею гнула прожитая трусость:
Никто не рвался погибать бесцельно,
Но, гибели боясь, утратил цель.
А он, предсказанный и долгожданный,
Дымил над ними тысячей кадильниц.
К нему ползли они по хлябям на поклон.