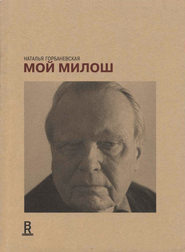скачать книгу бесплатно
Видал другого на песке с лопаткой.
Несхожи судьбы их, несхожа слава.
Огромный океан, чужие страны,
Коралловые отмели за рифом,
Где в раковину голый вождь трубит,
Познал моряк. И живо то мгновенье,
Когда в жаре безлюдного Брюсселя
Он тихо шел по мраморным ступенькам
И возле «К°» компании звонок
Нажал и долго вслушивался в тишь.
Вошел. Две женщины на спицах нитку
Сучили – он подумал: словно Парки.
На дверь кивнули, скручивая пасмо.
Директор анонимно подал руку.
Вот так стал Джозеф Конрад капитаном
На Конго, по решению судьбы.
И Конго – место действия рассказа,[6 - Речь идет о повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы».]
Где слышащим давалось прорицанье:
Цивилизатор, очумелый Курц,
Владел слоновой костью в пятнах крови,
Кончал отчет о просвещеньи негров
Призывом к истреблению, вступая
В двадцатый век.
Об ту же, впрочем, пору
Подковки, ленты, пляски до утра
В подкраковской деревне, под волынку,
И сотни лет игравшийся вертеп.
Неодолимой воли был Выспянский,
Хотел театра, как у древних греков.
Но не преодолел противоречья,
Что преломляет нам и речь, и зренье,
В неволю нас эпохе отдавая,
И мы уже не лица, а следы,
Не личности, а отпечатки стиля.
Подмоги нам Выспянский не оставил.
Наследье наше – памятник иной,
Воздвигнутый шутя, а не во славу.
Для языка по мерке, как частушка,
А для бесплотной мысли в поученье.
Остроты, чепуха, «Словечки» Боя.[7 - «Словечки» Тадеуша Желенского, более известного под псевдонимом Бой, – сборник «фрашек» (стихотворных острот или, попросту говоря, эпиграмм).]
День угасает. Зажигают свечи.
Винтовочный затвор на Олеандрах
Не щелкает. Лужайки опустели.
Ушли эстеты в скатках пехотинцев.
Их кудри смел цырюльный подмастерье.
Стоит в полях туман и запах дыма.
Наполнит рюмки доктор. А она
У фортепьяно, при свечах, в лиловой
Вуали, напевает эту песню,
Что нам звучит, как весть из ниоткуда.
Отголоски далекой кофейни
Оседали на мертвый висок.
II. Столица
Чужой ты город на песках сыпучих,
Под православным куполом Собора,
Твоя погудка – ротная побудка,
Кавалергард, солдат всех выше,[8 - «Кавалергард, солдат всех выше» – по-русски в тексте. Строка из русской армейской песни.]
Тебе из дрожек ржет «Аллаверды».
Так надо оду начинать, Варшава,
Твоей печали, нищете, разврату.
Окоченелою рукой лотошник
Отмеривает семечки стаканом.
Увозит прапорщик у стрелочника дочку,
Чтобы ей княжить в Елисаветграде.
На Черняковской, Гурной и на Воле
Уже шуршат оборки Черной Маньки,[9 - «На Черняковской, Гурной, на Воле» – начало припева популярной в варшавских предместьях баллады о Черной Маньке, проститутке, отравившейся после того, как ее бросил возлюбленный (ср. «Маруся отравилась…»).]
Уже она в парадном подмигнула.
Тобою, город, Цитадель владеет.
Прядет ушами кабардинский конь,
Едва послышится: «Смерть вам, тираны!»
О луна-парк привислинского края,
С губернией тебе бы управляться.
Но стать теперь столицей государства,
Теперь, в толкучке беженцев с Украйны,
Распродающих уцелевший скарб?
Палаш да ржавый карабин французский —
Вооруженье для твоих баталий.
Против тебя, смешная, все бастуют:
И в Златой Праге, и в английских доках.
В отделах пропаганды добровольцы
Строчат ночами о грозе с востока,
Не зная, что над гробом им сыграют
На хриплых трубах «Интернацьонал».
И все-таки ты есть. И с черным гетто,
И со слезами женщин в довоенных
Платках, и с сонным гневом безработных.
Шагая взад-вперед по Бельведеру,
Пилсудский не уверует в стабильность.
«Они на нас, – твердит он, – нападут».
Кто? И покажет на восток, на запад.
«Я бег истории чуть-чуть затормозил».
Вьюнок взойдет из заскорузлой крови.
Где полегли хлеба, пройдут бульвары.
Как это было? – спросит поколенье.
А после не останется ни камня
В том месте, где ты был когда-то, город.
Огонь пожрет истории прикрасы,[10 - Строка из «Конрада Валленрода» Мицкевича. Здесь приводится по кн.: Адам Мицкевич. Стихотворения. Поэмы. М., 1968, – в пер. Н. Асеева.]
Как грошик из раскопок, станет память.
Но поражения твои вознаградятся.
Как знак того, что только речь – отчизна,
Вал крепостной тебе – твои поэты.
Поэт нуждался в доброй родословной.
От набожного цадика, к примеру.
Родители, Лассаля начитавшись,
Клялись Прогрессом и берлинской Lied
И выхолащивали красоту.
Бывали захудалей: из мещанства,
Из безземельной шляхты, даже немцы.
Не снилось им, гудя «Под пикадором»,
Как горек на укус лавровый лист.
Тувим на вечерах в глухих местечках
Кричал, раздувши ноздри: «?a ira!»
Взрывался зал туземной молодежи
На ветхий звук запрошлого столетья.
Энтузиастов – тех из них, кто выжил, —
Тувим увидит на балу ГБ.
Кольцом замкнулась огненная цепь,
Бал у Сенатора[11 - Бал у Сенатора – сцена из III части «Дзядов» Мицкевича:Смотри, как подъезжает к даме.Вчера пытал – сегодня в пляс.Обшаривает всех глазами,Шакалом рыщет среди нас.………………Вчера, как зверь, когтил добычу,Пытал и лил невинных кровь.Сегодня, ласково мурлыча,Играет с дамами в любовь.……………….Какой здесь блеск, все тешит взоры!……………….Ах, негодяи, живодеры!Чтоб разразило громом вас!Пер. В.Левика. Цит. по тому же изд.Речь идет о следствии, которое вел в Вильне сенатор Новосильцов по делу молодежного тайного общества филаретов. Арестованный по этому делу, Мицкевич был выслан во внутренние губернии России (его приговор был одним из самых мягких).] вовеки длится.
Весну, не Польшу поджидал весною,[12 - «И пусть весной весну – не Польшу встречу», – писал Ян Лехонь (Лешек Серафинович) вскоре после восстановления независимой Польши. Это было время, когда в кафе «Под Пикадором» (одним из его основателей был Лехонь) начала складываться поэтическая группа «Скамандр» – о ней Милош далее говорит: «Такой плеяды не было вовеки». Кроме Лехоня, в «Скамандр» входили Юлиан Тувим, Казимеж Вежинский (скончавшийся, как и Лехонь, в эмиграции), Антоний Слонимский и Ярослав Ивашкевич – обо всех см. далее текст «Трактата». Нижеупомянутые «слуцкие пояса» и «кармазин» – приметы «старопольскости».]
Топча былое, Лехонь-Герострат.
Однако жизнь его прошла в раздумьях
О слуцких поясах, о кармазине
Да о религии: не о католицизме,
Но – просто польской. Для национальной
Обедни он избрал в жрецы Ор-Ота.[13 - Ор-От (Артур Оппман) – польский поэт старшего по сравнению со «скамандритами» поколения (1867—1931), певец Варшавы, патриотизма и борьбы за независимость, участник польско-советской войны 1920.]
А что Слонимский, грустный, благородный?
Грядущее он пел, ему вверялся
И верил: по Уэллсу ли, иначе ль,
Но Царство Разума вот-вот наступит.
Под Небом Разума кровоточащим
Он и под старость внуков одарял
Надеждой бородатой: мол, увидят,
Как Прометей спускается с Кавказа.
Из камушков цветных слагал именье
Делам публичным чуждый Ивашкевич,
Поздней оратор, он же гражданин,
Суровой неизбежности покорный.
Релятивистом быть, ведь всё проходит,
И – стать герольдом доблестей славянских,
Чтоб слушать нам мужицкую капеллу, —
Есть меланхолия в такой судьбе.
Но одиночество в глуши заморской
Не лучше – разве что для честолюбья.
Извечен птичий крестик на снегу.
Не ранит время и не исцеляет.
В окно к Вежинскому заглянет сойка,
Сестрица голубая прикарпатской.
Такою-то ценой платить придется
За юность – за вино и за весну.[14 - «Весна и вино» – сборник стихов К. Вежинского (1919).]
Такой плеяды не было вовеки.
Но в речи их поблескивала порча.
Гармония у них пошла от мэтров.
В их обработках не было помину
О гомоне сыром простых вещей.
А там бурлило, там бродило глубже,
Чем достает отмеренное слово.
Тувим жил в ужасе, смолкал, кривился
С чахоточным румянцем на щеках.
И, как позднее честных коммунистов,
Он искушал тогдашних воевод.
Закашливался. В крике был второй,
Замаскированный: что общество людское
Само уже есть чудо из чудес,
Что мы едим, и говорим, и ходим,
А вечный свет для нас уже сияет.
Как те, что в радостной, пригожей деве
Скелет узрели, с перстнем на фаланге, —
Был Юлиан Тувим. Поэм он жаждал.
Но мыслил он – как рифмовал, банально,
Истертым ассонансом прикрывая
Видения, которых он стыдился.
Кто белою рукою в этом веке
Усеивает строчками бумагу,