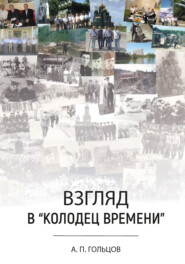
Полная версия:
Взгляд в «колодец времени»
А в нём ума! Я куму-то верю…”). Но всё же основную массу амнистированных составляли люди, осужденные за незначительные правонарушения, не представлявшие опасности для общества. Были такие и из нашего района, знакомые и родственники друзей. На нас эти события отразились в том, что родители ввели определённые ограничения на наши прогулки за пределы улицы, особенно в вечернее время и предупреждали о необходимости более осторожно относиться к незнакомцам. Продолжалась такая “напряжёнка” в общем-то недолго и, к чести милиции тех дней, криминальную обстановку удалось достаточно быстро вернуть в прежнее русло. Каких-то катастрофических последствий эта амнистия, несмотря на её поспешность и непродуманность, не имела, хотя считается, что именно с ней связано начало проникновения в общественно-культурную жизнь тогдашнего советского общества “блатной” романтики и некоторых традиций уголовного мира.
Я часто, с огромной теплотой вспоминаю нашу улицу. Каждый раз приезжая в Сызрань, прихожу на неё. Конечно, теперь она уже совсем не та, какой была раньше: нет нашего дома, домов многих моих друзей и подруг, оставшиеся дома перестроены, но кое-что сохранилось и позволяет снова перенестись в мыслях в то счастливое время детства, когда всё было просто и ясно, когда каждый новый день приносил радость общения с друзьями, новые выдумки и новые игры.
Вспоминаю своих друзей: Сашу Хотеева, Толю Петрова, Колю и Юру Буркиных, Витю Угланова, Шуру Бакаусова, Валеру Луковцева, Юру Агафонова; наших девчат: Галю Туркину, Риту и Зину Раппопорт, Люду Ананьеву, которые были неизменными участниками наших игр и к которым мы относились как к “своим ребятам”. Были, конечно, на нашей улице и другие дети, в том числе наши братья и сёстры, но или младше нас, как, например, моя сестра Таня, Ира Туркина, Оля Петрова, Лёша Ананьев, или старше, как опять же моя сестра Валентина, Мила Евтеева, Тома Моисеева, Галя Иванова, Лёва Хотеев, которые, по названным причинам, не входили в наш “круг общения”.
Время и жизненные обстоятельства развели наш небольшой, но сплочённый детский коллектив по разным городам и районам нашей страны. С кем-то связи довольно быстро прервались навсегда, с кем-то – поддерживались ещё достаточно долго, кто-то за эти годы, к сожалению, ушёл из жизни. В настоящее время имею возможность встречаться только с Галей Туркиной (теперь Романовой), и Ритой Раппопорт (Тарасовой), что и делаю каждый раз по приезду в Сызрань, а между приездами использую для общения и ресурсы Интернета. До середины 2013 г. регулярно встречался и с моим самым близким другом – Сашей Хотеевым, который после увольнения с военной службы вернулся жить в Сызрань. Наша дружба продлилась около 65 лет и Саша был мне почти как брат. Оба мы стали военными (Саша – военным лётчиком, я – офицером-зенитчиком, а потом политработником) и хотя пути-дороги службы порой уводили нас далеко друг от друга, связь мы и в те годы старались поддерживать. В 2013 г. Саша тяжело заболел, нуждался в постоянном присмотре и обслуживании, и сын увёз его в себе в Саратов, где в апреле 2015 г. он умер, не дожив двух месяцев до своего семидесятилетия. Похоронили его в Сызрани, как он и выражал желание ещё при жизни, рядом с матерью.
Да! Со временем не поспоришь. Оно бесстрастно продолжает свой бег, увлекая нас за собой, и всё глубже уходят в бездну “колодца времени” наши воспоминания о прекрасной поре детства. Но пока мы живы, они всегда с нами, как самая светлая и добрая ностальгия.
Глава III. Школа
Порог школы я перешагнул 1 сентября 1950 года. Родители записали меня в начальную, т. е. с четырёхлетним сроком обучения, школу № 13, располагавшуюся в военном городке. Она была в то время ближайшим к нашей улице учебным заведением. На начало обучения в школе пришлось моё тесное знакомство с военным городком, а число “13” впоследствии ещё не раз возникало на моём жизненном пути, но всегда, как говорится “приносило удачу” и было связано, в том числе, с несколькими знаковыми – в хорошем смысле – событиями в моей судьбе. Так что число “13” считаю с той поры своего рода талисманом.
Прежде, чем продолжу рассказ о школьных годах, хотелось бы сказать доброе слово о Первом учителе (сознательно пишу слово “первый” с большой буквы). Это не просто педагог-профессионал широкого профиля, но и воспитатель и психолог. Он первым встречает ученика в школе, помогает ему адаптироваться в новом, качественно другом коллективе и, самое главное, включиться в процесс учёбы. Всё знакомство со школьным миром начинается как раз с Первого учителя, которого недаром большинство бывших его учеников помнят всю жизнь. Он пробуждает у нас интерес не только к учёбе, но и к познанию и пониманию окружающей нас действительности. Наконец, именно Первый учитель формирует наше будущее отношение к другим учителям, которые потом поведут нас дальше по нелёгким тропам знания.
Моей первой учительницей была Валентина Георгиевна Исакова. Как и другие учителя начальных классов, она вела все предметы, входившие в учебную программу, вводила нас в мир знаний, открывавший доступ к огромным интеллектуальным богатствам, накопленным человечеством. Ведь именно в первых классах мы учились составлять, читать и письменно отображать сначала слова, а потом и предложения, постигали правила речи и письма, мир цифр, получали первые представления о нашей стране и об окружающем мире. Ну и, конечно, эти классы закладывали фундамент для нашего дальнейшего образования. Знания, полученные здесь как раз и формировали ту своеобразную “площадку”, с которой мы начинали путь к более глубокому и детальному изучению различных дисциплин: русского языка, математики, физики, химии, биологии, литературы, истории, географии и др.
Когда пишешь о школьных годах, в первую очередь, конечно, вспоминаются не сами уроки. Тут всё понятно и учебный процесс в воспоминаниях занимает не самое главное место. В общем-то, он у всех был одинаковым и подчинялся конкретной программе, отличаясь, ну может быть, манерой подачи содержания предмета, присущей учителю, который его вёл.
А вот общение с одноклассниками, особенности школьной жизни, связанные с играми и шалостями в классе, и на переменах на школьном дворе, и после занятий, с культурно-массовыми мероприятиями: творческими конкурсами, культ- и турпоходами, спортивными соревнованиями, сбором металлолома и др., вспоминаются более ярко.
Итак, пойдём в школу… А уж заодно – по дороге – будем вспоминать всё то из школьной жизни, что наиболее ярко отложилось в памяти.
Занятия начинались в 9 часов утра. Выходить из дому надо было часов в 8–8.15, поскольку идти для меня, тогда ещё малыша, было далековато, но, честно говоря, не очень. Главное, что по дороге до школы нужно было сделать кое-какие дела. Например, посидеть в кабине трактора во дворе ремонтной мастерской и подёргать за рычаги управления, или посмотреть, как возвращается в караульное помещение смена часовых… Да мало ли чего ещё! Обычно я выходил из дома на улицу в сторону завода, а затем, в конце, сворачивал по тропинке влево и так шёл до контрольно-пропускного пункта, через который и входил на территорию военного городка. Зимой, правда, можно было сократить дорогу, выйдя на зады двора и далее наискосок через огороды к тому же КПП или даже напрямик через дыру в проволочном ограждении городка, а вот осенью или весной там можно было запросто застрять в грязи.
Вставать приходилось часов в семь утра, когда спать ещё, ох как хотелось. Наверное, прав был один из героев повести о буднях радиолокационной роты, который, перефразируя слова В. Шекспира из трагедии “Ромео и Джульетта”, говорил: “Нет повести печальнее на свете, чем повесть о подъёме на рассвете”. Правда, в это время, и даже раньше, в доме уже было довольно оживлённо: родители собирались и уходили на работу (рабочий день на заводе начинался в 8.00), старшая сестра Валя уходила в школу раньше меня, потому что у неё дорога была куда длинней моей – до Заусиновского района, бабушка готовила завтрак. В общем, в такой обстановке всеобщего движения, в темп которого надо было “вклиниться”, остатки сна быстро слетали. Дальше всё по устоявшемуся порядку: умылся, оделся, позавтракал, взял портфель – и в дорогу.
В портфеле несколько учебников, дневник (иногда источник всякого рода личных неприятностей), тетради, пенал, в котором находилась ручка, карандаши, запасные перья, ластик и кусочек материи для протирки пера, палочки для наглядного осуществления первых простейших арифметических действий сложения и вычитания. Ну и, конечно же, в портфеле была чернильница. Вот уж головная боль с ней! Сколько тетрадей, учебников, не говоря уже о руках и одежде, было перепачкано её содержимым, хоть и называлась она “непроливайкой”, поскольку имела вогнутую внутрь конусную часть, препятствующую выливанию содержимого. Но это название оправдывалось, только если налить чернил до нужного уровня и переворачивать её медленно. Ну а кто же из мальчишек будет всё время аккуратно обращаться с портфелем, которым приходилось и размахивать на бегу, и “поприветствовать” приятеля-одноклассника шлепком этого же портфеля по спине или (святое дело!) использовать его как “штангу” футбольных ворот? Мысли о чернильнице в портфеле в таких случаях, как правило, напрочь отсутствовали. Понятно, что “буря”, поднимавшаяся в ней от таких манипуляций и ударов, выплёскивала часть содержимого наружу, оставляя следы чернил на всём, что находилось рядом. А бывало, что чернильница и вообще разбивалась, поскольку была стеклянной или керамической. Вот это уже была прямо настоящая трагедия. Помню, потом, уже где-то со второго – третьего классов, носили чернильницы в специальных мешочках из толстой байки, но это мало помогало и лишь немного уменьшало размеры последствий.
Из всех предметов первого класса, конечно же, прежде всего, запомнилось чистописание. И наверняка не только мне. Сколько труда и времени вкладывалось, чтобы правильно и красиво писать буквы и цифры! Для этого существовали, да и сейчас существуют специальные тетради – прописи – разлинованные под размер заглавных и прописных букв по горизонтали и вертикальными линиями под определённым углом вправо, чтобы у букв был правильный наклон.
Разве забудешь, как, прикусив от усердия кончик языка и склонив вправо голову, выводил букву за буквой! Вроде всё идёт хорошо, но вдруг не рассчитал, нажал на ручку сильнее, чем следовало и перо, раздвоив пишущий конец, рвёт бумагу. Или макнул перо в чернильницу, призадумался, немного задержал перо над листом, а с него – бац! – клякса. Весь труд насмарку: вырывай страницу и начинай заново. Прекрасно описал этот процесс поэт Сергей Михалков в своём стихотворении, которое так и называется “Чистописание”. В нём всё, как и бывало в жизни, только, конечно, талантливо, интересно и складно: “Уже написано «даёт», но тут перо бумагу рвёт. Опять испорчена тетрадь – страничку надо вырывать!”… “И клякса чёрная, как жук, с конца пера сползает вдруг”…
И всё-таки труд, заложенный в чистописание, чаще всего пропадает даром. Конечно не в том смысле, что человек теряет навыки письма. Нет. Речь идёт только о красоте почерка. Со временем он редко у кого сохраняется таковым и чаще всего становится всё неразборчивей. Это, как мне кажется, связано с неизбежным переходом в процессе дальнейшего образования от сформировавшегося писчего навыка с аккуратным “школьным” почерком к автоматичному, беглому почерку, в ходе которого у человека складываются свои, индивидуальные, приёмы быстрого письма с различного рода сокращениями и символами. И, конечно, такой почерк совершенно не похож на те прописи, которые мы так старательно отрабатывали в начальных классах.
Сейчас в нашу повседневную жизнь уверенно вошли и получили широкое распространение компьютеры, планшеты, смартфоны и другие подобные “гаджеты” (в широком смысле слова “гаджеты” – это небольшие устройства для облегчения и усовершенствования жизни человека). В связи с этим множество людей – особенно в развитых странах – всё реже пользуются ручкой и бумагой и всё в большей степени переходят к так называемому “клавиатурному письму”, т. е. набору текста с помощью клавиатуры соответствующего устройства. И кто знает, не приведёт ли это в будущем к исчезновению письма в его классическом понимании? Хочется надеяться, что рукописное письмо сохранится, ведь каллиграфия в некоторых странах Востока, особенно в Китае и Японии, является одним из самых распространённых (и, заметим, весьма почитаемых) видов искусства. Однако, кто знает… В ряде штатов США, например, чистописание, которое как раз и формирует навыки письма, уже переведено в разряд необязательных предметов.
Много хлопот доставляла и таблица умножения, которую надо было учить наизусть, а это восемь столбцов по десять строчек. Правда, подсказка всегда была, что называется “под рукой”: она печаталась на задней стороне обложки школьных тетрадей.
Из событий школьной жизни первого и второго классов почему-то наиболее ярко запомнились два: посещения городского краеведческого музея и фабрики игрушек.
В музее наше особое внимание привлекли две статуэтки, находившиеся в экспозиции “Убранство дворянского дома XIX века”: бронзовая – “Умирающий гладиатор” и мраморная – “Мальчик, сидящий на подушке”. Мы с друзьями долго рассматривали “Умирающего гладиатора”, обнажённого, пытающегося приподняться, опираясь на руку, возле которой лежит меч. В левом боку – колотая рана с каплями крови. Всё-таки велика сила искусства! Все мы долго и молча смотрели на эту скульптуру, охваченные чувством сопереживания трагической минуты гибели человека, прекрасно переданной ваятелем. И хотя, как уже отметил, фигура гладиатора была обнажённой, со всеми анатомическими подробностями, никому из нас и в голову не пришло как-то обсуждать их, или скабрезничать по этому поводу. Так же было и со скульптурой мальчика, сидящего на подушке, тоже, кстати, обнажённого. И здесь нас восхищала только сила человеческого умения, способного с потрясающей реальностью передать в камне и изгибы человеческого тела, и измятость подушки, на которой сидит мальчик. Именно такими впечатлениями мы и делились между собой, когда вышли из музея. Лично для меня эта экскурсия стала первым толчком, пробудившим интерес к искусству.
На фабрике игрушек мы наблюдали как из различных “деталей” собирают кукол. Лежащие в отдельных ящиках вдоль сборочной линии кукольные головы, туловища, руки и ноги, вызывали в начале осмотра странное ощущение какого-то нереального хаоса, воспринимались как последствие какой-то чудовищной катастрофы. Но когда присмотришься к быстрым и уверенным движениям женщин-сборщиц, это восприятие быстро пропадает. На другой линии собирали деревянные автоматы, напоминавшие своим внешним видом знаменитые ППШ. Здесь мы, мальчишки, смотрели во все глаза, запоминали некоторые производственные подробности, которые использовали при самодельном изготовлении для своих игр подобного “оружия”.
Летом 1953 года наша начальная школа переехала в здание бывшего Офицерского собрания военного городка и стала семилетней. Директором школы был назначен и долгое время – более тридцати лет – возглавлял её Николай Дмитриевич Шимко – прекрасный педагог, воспитатель и руководитель, по-настоящему преданный своему делу человек. Преподавал он историю – Древнего мира, Средних веков, Новую историю и, естественно, историю нашей страны в рамках этих исторических периодов. Уроки вёл очень интересно и увлекательно, буквально заражая учеников желанием больше узнать об истории вообще и о том, какое место в ней принадлежит нашей Родине.
Общественная жизнь школы при нём была весьма насыщенной: устраивались культпоходы, выставки детского творчества, туристические походы, концерты школьной самодеятельности и др. Николай Дмитриевич всегда с готовностью откликался на инициативы пионерской и комсомольской организаций школы и даже сбор металлолома мог превратить в увлекательное и интересное мероприятие. В педагогических кругах города его в шутку, но с уважением называли “пионерский директор”. Уже значительно позднее, в начале 1990-х годов, мне довелось пообщаться с моим любимым учителем и директором. Во время одного из приездов в Сызрань был у друзей в военном городке и на обратном пути встретил на улице Николая Дмитриевича. Подошёл, представился и после короткого разговора он пригласил меня к себе на следующий день. Встреча наша продолжалась часа три. И сколько интересного рассказал он мне о моих бывших одноклассниках, о жизни школы за эти годы! Действительно, для него наши жизненные дороги и судьбы были были частью жизни. Недаром мы все так его любили и уважали.
С добрым чувством вспоминаю и других учителей нашей школы, особенно Антонину Ивановну Люлину – учительницу географии и нашу классную руководительницу в 5–7 классах, Клавдию Павловну Ящерицыну – преподававшую математику, Марину Петровну Стойкович – учительницу английского языка, Александра Андреевича Комаленкова – учителя труда. Всех их объединяли высокое педагогическое мастерство, умение заинтересовать своим предметом, а, главное, любовь к своим ученикам, которая, впрочем, сочеталась и с высокой требовательностью, но благожелательной.
Как пример, хочу рассказать маленькую историю из моих личных, если так можно выразиться, взаимоотношений с Клавдией Павловной Ящерицыной. Прекрасно владея своим предметом, она постоянно внушала нам, что математика не терпит легковесного, небрежного подхода, что только систематический труд даст результаты. Но всем нам в детстве частенько свойственно “пропускать мимо ушей” подобные наставления и поступать по-своему. Так получилось и у меня. Учился неплохо и многие предметы давались легко. В математике, например, больше любил геометрию. И вот, на одном из уроков после ответа у доски с доказательством какой-то теоремы, получил отличную оценку и к следующему уроку заданный на дом материал просмотрел бегло, рассудив, что раз сегодня отвечал, то завтра меня не вызовут – не один же я в классе! – а высвободившееся время лучше использовать в играх с друзьями. Однако Клавдия Павловна меня вызвала и, естественно, я “влип” и получил “неуд”. Пришлось принимать меры, чтобы исправить положение, т. е. засесть за учебник. Какое-то время мои усилия результатов не давали и, хотя всячески демонстрировал желание к ответу, Клавдия Павловна меня к доске не вызывала и надо было постоянно готовиться и хорошенько отрабатывать все задания. Наконец дождался вызова, радостно и чётко ответил на предложенный вопрос и получил “отлично”. Ну а дальше… история опять повторилась. После того, как в журнале напротив моей фамилии выстроились оценки 5-2-5-2-5, я больше не предпринимал подобных попыток “облегчить” изучение математики и урок, преподанный мне Клавдией Павловной, крепко усвоил. Во многом она приучила к последовательности, обстоятельности и систематичности в учёбе. Потом всё это помогало мне и в дальнейшем при решении различных жизненных проблем.
Школа познакомила нас и со специфическими играми, базировавшимися на предметах школьного обихода. Видное место среди них занимали те, что были связаны с перьями, которыми мы писали. Существовало немало разновидностей этих изделий, имевших среди школьников свои сленговые наименования. Перья с выдавленной звёздочкой и двумя поперечными углублениями на “шейке”, похожими на римскую цифру “II”, мы именовали “11-й номер”, перья с широким пишущим концом – “лягушка”, со сплющенным с боков пишущим концом – “скелет”. Поскольку перья иногда ломались, в пенале всегда имелся запас. И вот их-то использовали для игры в “пёрышки”. Перо клалось выпуклой стороной на поверхность стола или верхней части парты, затем надо было пишущим концом другого пера резко провести поперёк лежащего. Если лежащее перо таким движением переворачивалось, оно становилось собственностью того, кто переворачивал, если нет – в дело вступал другой партнёр. Использовались перья и как своеобразные стрелы (наподобие оперённых дротиков в современной игре “дартс”): хвостовик пера расщеплялся, в него вставлялось бумажное крестообразное оперение, а у пишущего конца обламывалась по прорези правая или левая половинка, чтобы кончик был более острым. Такие стрелы метались (обычно с двух – трёх метров) по мишеням, нарисованным на наличниках дверей или другой деревянной поверхности.
На переменах часто играли в “лямбу”, представлявшую собой округло обрезанный кусочек козьей шкуры, к которой с гладкой стороны крепилась плоская свинцовая бляшка. Получалось что-то похожее на волан для бадминтона. Козья шкура бралась потому, что её мех был длиннее овечьего и “лямба” устойчивее падала с верхней точки подброса (свинцовым грузиком вниз). Суть игры состояла в том, чтобы тыльной стороной стопы подбрасывать “лямбу”, не давая ей упасть на землю. Победа определялась количеством таких подбрасываний, а также умением поочерёдно менять ногу. Увлечение этой игрой было недолгим, где-то два – три года, и сошло на нет.
После школьных занятий мы любили поиграть “в войну” на бывшем тактическом поле пехотного училища. Хотя оно и было расформировано в 1953 году, поле ещё оставалось нетронутым и представляло собой идеальное место для наших игр. На нём по всем нормам Боевого Устава был оборудован ротный опорный пункт с окопами, соединительными траншеями, блиндажами и дзотами (дзот – деревоземляная огневая точка), так что нам нужно было только занять соответствующие позиции и “отражать атаки” воображаемого противника. Причём здесь мы действительно чувствовали себя как в боевой обстановке – ведь все укрепления были настоящими, такими, какими видели их в кино или на иллюстрациях книг о войне. Кроме того здесь можно было найти гильзы, патронные обоймы, а иногда – это уж кому повезёт – и холостые патроны, которые кидали в костёр и наблюдали за их взрывом. К сожалению, иногда встречались находки куда более опасные. В сентябре 1954 г. наши соученики по школе Солнцев и Медведев нашли там взрывоопасный предмет (скорее всего противопехотную мину или гранату) и стали его разбирать в одном из блиндажей. Произошёл взрыв, в результате которого оба паренька погибли. Через 2–3 года после расформирования пехотного училища тактическое поле постепенно стало разрабатываться под огороды, а к началу 1970-х годов и вовсе было застроено жилыми домами.
Использовалось в наших играх и множество самодельного “вооружения”. Наиболее “громкими” и, кстати, опасными были так называемые “стрелялки”, представлявшие собой Г-образно изогнутые трубку – чаще всего медную – и гвоздь, также согнутый в виде буквы “Г”, соединённые тугой резинкой. В трубку набивалось вещество со спичечных головок, затем вставлялся гвоздь, но так, чтобы силой трения он держался в начале трубки. Резинка при этом натягивалась. Потом нажатием на резинку гвоздь смещался и с силой проталкивался ею внутрь трубки, резко ударял по находившемуся там веществу, которое взрывалось, издавая сильный грохот и выбрасывая из устья трубки снопы искр. Грохот был тем сильнее, чем больше спичек очистил в трубку. Но следовало соблюдать меру и осторожность, иначе рисковал или сильно обжечь руку, или даже получить травму от гвоздя, который могло “выбить” из трубки. Упомяну ещё и минирогатки из резинок, одевавшиеся на пальцы руки. Для стрельбы из них использовали “шпонки”: U-образно изогнутые полоски бумаги, свёрнутой в несколько слоёв (для стрельбы друг по другу), или таким же образом изогнутые отрезки алюминиевой или медной проволоки (для стрельбы по другим мишеням). Входили в наш “арсенал” и отрезки трубок от гидросистем самолётов. Из них “стреляли” посредством резкого выдоха (как в духовых “ружьях” индейцев), жёваными комочками бумаги или “фениками” – небольшими серебристого цвета овальными плодами одного из видов кустарников, в изобилии росшего тогда на территории военного городка, особенно возле старой водонапорной башни.
Но всё это были наши – в основном мальчишеские – игры и шалости, которые мы устраивали самочинно и которые, естественно, не одобрялись взрослыми.
Кроме них, конечно же, была и общественная школьная жизнь в рамках пионерской и комсомольской организаций: торжественные построения – “линейки” – в честь различных знаменательных событий и государственных праздников, собрания, художественная самодеятельность, культпоходы и туристические походы, выставки нашего творчества, сборы металлолома, макулатуры и др.
В пионеры меня в числе других одноклассников приняли в мае 1953 года. Когда перед строем пионерской дружины и в присутствии руководства школы прошла торжественная церемония повязывания нам красных галстуков, мы приняли своего рода пионерскую присягу. На призыв директора школы: “Юные пионеры! К борьбе за дело Ленина – Сталина будьте готовы!” мы отвечали: “Всегда готовы!” В члены ВЛКСМ меня приняли в октябре 1956 года. Церемония приёма прошла в городском комитете комсомола.
Одним из запомнившихся общественных мероприятий стала проведённая в 1954 г. выставка рисунков учеников нашей школы, в которой принял участие. Тему для своей работы выбрал весьма неординарную: решил представить копию картины знаменитого русского художника XIX века И. Е. Репина “Иван Грозный и сын его Иван”, которая изображала сцену убийства царём Иваном IV Грозным своего сына Ивана (в исторической науке реальность этого события подвергается сомнению). Репродукцию картины впервые увидел в журнале “Огонёк” и она произвела на меня сильное впечатление. Поражало, прежде всего, лицо царя. С какой силой сумел великий художник передать через выражение лица, безумный взгляд широко раскрытых глаз, весь его ужас перед непоправимостью случившегося! И мне вдруг захотелось проверить, а смогу ли я хотя бы в приемлемом приближении воспроизвести то, что сделал И.Е Репин?

