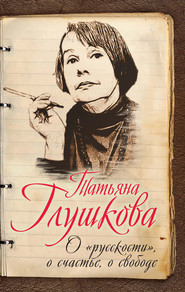скачать книгу бесплатно
Это и впрямь решимость – «бездны… на краю». На краю огромного и, казалось бы, необоримого. Ведь «остановить» Моцарта – значит: «остановить» небо. Ведь это оно, «небо», «озаряет голову безумца» – Моцарта – «бессмертным гением»!
Тут можно говорить о безумии самого Сальери, о порушенной психике этого вечного насильника над натурой, действительностью, истиной… Однако если это и безумье, то – «умное», логичное в своем развитии: оно развивалось с логической «правильностью», ступень за ступенью, и все его ступени пронизаны единым логическим принципом. Это, так сказать, предсказуемое безумие – предсказуемое конкретно во всех его стадиях.
Мысль «остановить» небо – для Сальери не внезапное озарение (пусть и «безумное»): это для него – подготовленная, правильно выросшая, а по существу, коренная, органичная мысль. Ведь он никогда не верил в «небо», как не верил в неуправляемость чего-либо. Он верил только в строгий логический инструмент, в наглядность, очевидную ясность причинно-следственных связей, и истинным «небом», верховной субстанцией, которой подвластно все, был для него математически-без- ошибочный разум. Так что безумная (на наш взгляд) решимость «остановить» ушедшее от «правоты» небо – это, в системе Сальери, как раз миг полноты разума. «Для меня Так это ясно, как простая гамма», – говорит Сальери о «неправоте», а значит, с его точки зрения, уязвимости «неба» и надеется уязвить смертью «бессмертного гения»…
Речь тут, естественно, не о пушкинском, Моцартовом, аполлоническом разуме (ясном зрении, ясновидении), не о русском «уме» или «здравом смысле» – источнике мудрости и простоты (все русские слова все-таки слишком теплы для безумно-трезвой, цинической головы Сальери!): уместней всего тут, пожалуй, – ледяное, бесстрастное «ratio» с «сухой беглостью» его «трудовой» логики. Этот-то, рационалистский, разум, логическое саморазвитие его, механическое развертывание «лестницы» его классических задач, ключ к которым – в формальной логике, а исток – в умозрительной, волюнтаристской начальной посылке, служит залогом безотказного «философского» обоснования убийства. Всякого организованного убийства. И убийства Моцарта – в частности.
«…Поверил Я алгеброй гармонию», – говорит Сальери. Но нет, не «поверил», а лишь поверял. Иначе явление Моцарта не знаменовало бы для него опасности, не воспринималось бы как явление врага, «злейшего врага». Иначе не было бы этого ужаса: «…мы все погибли»! Ведь «поверенное», разгаданное, разъятое на образующие части – не страшно: из тайны оно превращается в науку, доступную для овладения ею! Сальери же – страшно. Его настигает «злейшая обида», «злейший враг» (великое и творец его, «новый Гайден») – угроза, опасность, вселяющая ужас… И Сальери лихорадит восторг дерзновенной победы над ужасом – физической победы над ним. Победы над Гармонией, этой – для Сальери – силой грозной, «бездной мрачной»!
Его отношения с Гармонией таковы ж, как и его отношения с Природой. Это – борьба (а не сыновняя послушность). Это – антагонизм, противостояние (а не жажда слияния). Это – желание упразднить ее, вычеркнуть, выгнать из мира: «Так улетай же! чем скорей, тем лучше», – понукает он вестника гармонии с его «песнями райскими».
Сальери – не «сын гармонии», не нота из безграничной ее партитуры, но вечный воитель с нею, неутомимый ее «конкурент» и упразднитель, хотя вечно ломается его чернильное копье, вечно бледнеет едкая его ночная лампада, угль «творческой ночи» – «пред ясным восходом зари»!
* * *
Одоление для Сальери – это всегда именно физическое одоление, всяческая работа «перстами»… И потому, чтобы одолеть (упразднить) ужас, открыты перед Сальери именно физические возможности. Их, вообще говоря, две: убить себя – либо убить Моцарта, этого «нового Гайдена», воплощенную причину «злейшей обиды» или Сальериева ужаса, грянувшего «с надменной высоты»…
«Дар Изоры» предназначался, собственно, для самого Сальери. Для минуты, когда жизнь покажется ему «несносной раной». Минуты вполне возможной, ибо ведь он и вообще «мало жизнь любит». Однако тщетно применять к самому рационалисту его логику – ту, которую сам он прилагает к внешнему миру. И если его «неумолимая» логика способна о что-нибудь разом обломаться, так это прежде всего о него самого – о глубокий эгоизм рационалистической натуры.
«Что умирать?» – рационально вопрошает Сальери, когда подразумевается собственная его смерть. Этот вопрос возникает в его мозгу вскоре после диаметрально противоположного – сопряженного с Моцартом: «Что пользы, если Моцарт будет жив…» Вскоре после того, как Сальери причислил себя к «чадам праха». И возникает во имя той спекулятивной «логики», которая должна обречь Моцарта на смерть.
Пушкин не комментирует противоречий мысли Сальери, логики Сальери, а только обозначает их – устами самого Сальери. Мысль о самоубийстве оборачивается мыслью об убийстве; рассуждение о бессмысленности жизни – рассуждением о неразумности умирать, – и мы сами должны оценить эту двойную логику, как и двойную этику рационалиста. Тут не рефлексия, а именно двойная логика. При однородной посылке она видоизменяется в своих выводах в зависимости не от состояний субъекта, но от объекта. И служит как раз двойной этике.
* * *
Милосердный «дар любви», «дар Изоры», переходит в «чашу дружбы», оборачиваясь «даром» вражды, ненависти.
Музыка Моцарта не пробуждает в Сальери «чувств добрых». А сам Моцарт – он только подталкивает руку Сальери, приближает свою смерть: слишком уж он не таит своей, Моцартовой, творческой природы, столь не сродной с угрюмой, сухой душою «друга»! Ну зачем он приводит к Сальери этого смешного «скрыпача» из трактира?! Зачем хохочет, услыхав эту смешную «скрыпку»?! Зачем с такой легкостью, с детским таким удовольствием (озорством!) позволяет ей, смешной «скрыпке», перевирать, коверкать «Из Моцарта… что-нибудь!»? Зачем ему не страшно это «бесчестье», эта пародия на Моцарта? Зачем он забыл даже про свежее свое сочинение, с каким шел к Сальери, сочинение, о котором «друг Сальери» воскликнет: «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!», – забыл ради «скрыпача слепого», ради нелепой потехи, – уж не хочет ли он тем показать Сальери, что эти «глубина», «смелость», «стройность» для него, Моцарта, сущий пустяк, вовсе не требовавший «усердия» и не стоящий серьезности?.. Всем своим поведением (да хоть бы и этим: «…божество мое проголодалось») Моцарт невольно, не думая о том, мучительно оскорбляет Сальери. А с ним вместе и «искусство», которое Сальери не отделяет от себя и привык даже подменять собой!
Конечно, Моцарта можно одернуть: «Ты, Моцарт, недостоин сам себя»… Можно прогнать слепого «скрыпача»: «Пошел, старик»… Можно оборвать «ребяческий» смех Моцарта, когда он первый смеется корявой пародии на своего «Дон Жуана», – оборвать гневными речами о «маляре негодном», что пачкает – «мне[2 - Как характерно это маленькое «мне»! Полагая искусство делом (трудом) надменной касты, Сальери уверен и в элитарной предназначенности художественных творений, словно бы заведомо адресованных некоему узкому кругу.] пачкает Мадонну Рафаэля»… Но ведь все это (подобное) повторится снова и снова! Как повторится и «глубина», «смелость», «стройность» Моцартовых созданий.
Характерно, что Сальери не видит в Моцарте ничего дельного, ничего достойного и поучительного для себя, кроме – самой по себе – его музыки (которой просто невозможно научиться!). «Безумец», «гуляка праздный» – вот все, что думает Сальери о Моцарте, когда отвлекается от его творений. Он не знает о целостности личности художника, о том, что простодушие Моцарта, его внутренняя свобода, легко позволяющая ему смеяться над собой («Нет, мой друг, Сальери! Смешнее отроду ты ничего Не слыхивал…»), его праздность (позволяющая ему, например, «остановиться у трактира И слушать скрыпача слепого»), – все это связано с его музыкой, все это – даже залог музыки, невидимо зреющей в его свободной душе…
Как они не схожи! – то и дело мысленно восклицает читатель, следя встречи этих двух «друзей»… У Моцарта больше общности со слепым скрипачом из трактира, чем с Сальери: оба они – Моцарт и этот скрипач – простодушны, просты… Потому-то, в частности, когда Сальери прогоняет старика, Моцарт тоже хочет уйти, словно бы это прогоняют его: «…Тебе не до меня», – говорит он Сальери.
Но не в несходство характеров – Моцарта и Сальери – упирается мысль Пушкина. (При самом по себе несходстве не исключен был бы все же «искренний союз, Связующий Моцарта и Сальери».) Пушкин ведет речь о невозможности их сосуществования. О том, что «звездный час» одного подразумевает небытие (бытие «как труп») для другого.
* * *
В «звездный час» фокусируется судьба человека. Явственно проявляет себя. Властно заявляет о себе – поверх всей «разумной», «достойной» или «мирной» жизни, которую человек ведет.
Что убийство – это именно его судьба, возможность, ставшая неизбежностью, затененное до поры, но неотвратимое «предначертание», – в этом пушкинский Сальери признается сам: «Нет! Не могу противиться я доле Судьбе моей: я избран, чтоб его Остановить…»
«Его» – это Моцарта… Впрочем, собственно Моцарт тут, в судьбе Сальери, случаен. Не зря, решившись на убийство, Сальери наедине с собой именует Моцарта не конкретно, а родово, обобщенно: «новый Гайден». Это и впрямь мог бы быть любой «новый Гайден», любой, вроде Моцарта, антипод Сальери. И «я избран», относительно Сальери, следует понимать как то, что он призван к убийству.
«Не могу противиться я доле…» Это рвется, наконец, на свободу подневольная, угнетенная досель природа Сальери, рвется отомстить за себя, за свою искаженность долгим, подневольным служением «искусству дивному».
Судьба – это, может быть, некий «надзор» мироздания над человеком. Над соответствием между его природой и жизнью. Между его возможностями и действенными стремлениями. Это – воля природы, ее высшая правда, по которой бунт жизни против природы неизбежно кончается бунтом, «местью» природы, бунтом, вовлекающим в орбиту своего взрыва не одну единичную жизнь…
В орбите этого взрыва оказался Моцарт. И это показывает нам, что месть природы не имеет в виду педантичной справедливости и, во всяком случае, не является средством «срочного» и «очевидного» утверждения гармонии. Месть – это самопроявление как раз хаоса. Разбуженного насильем над гармонией, насильем над природой. Разбуженного всею неорганичной «творческой» жизнью Сальери.
Месть – непомерна. Она не сверяется с нашими, частными представлениями о мере вины и невиновности. Она «бессмысленна» в видимой форме своей, она знает только причину своего взрыва, но как будто бы безразлична к многостороннему смыслу своих ближайших следствий, не озабочена ими… И вот – гибнет Моцарт. Разрушительная стихия погребает невиновного… Она служит как будто всецело замыслу Сальери, интересам Сальери. И, торжествуя посреди этого хаоса мести, Сальери восклицает: «…Ты заснешь Надолго, Моцарт!»
Но это – только мечтанье. Это только кажется ему! Он видит лишь то, прагматическое, ближне-полезное ему, что и способен видеть рационалист, вооруженный «алгеброй» практик. Он не замечает, что «небо», «заплатившее» ему Моцартом, сделало это в особо приуготовленный час. Не ранее, например, чем был написан «Реквием». Заказан Моцарту и написан им «Реквием»… Он не замечает, что Моцарт – не агнец на черном алтаре Сальериева Рационализма. Что ему, Сальери, неведомы все замыслы «неба» (да и того пришедшего в движение хаоса), которое кажется безразличным к судьбе Моцарта и всецело служащим замыслу Сальери…
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли? —
с удивлением спрашивает Сальери.
– Давно, недели три…
Сальери не знал этого, когда твердо решился на убийство.
Моцарт и тут, в последние дни жизни, опередил его, предвосхитил будущее, чутко слушая «небо», природу, свою судьбу.
И где уж Сальери знать дальние смыслы возбужденной им катастрофы?!
* * *
Судьбу Сальери следует отделить от судьбы Моцарта, хотя эти лица как будто крепко связаны узлом убийства, связаны как палач и жертва.
Убийство (убийство Моцарта) – это судьба Сальери.
Для Моцарта же тут лишь биографический факт, при котором так же проявляется этот характер (гений Моцарта), как и при других фактах его биографии.
Судьба Сальери, достигшая своего апогея в убийстве, упирается в это убийство как в свой финал, свой венец, как в полную осуществленность призвания Сальери.
Судьба Моцарта движется поверх его смерти, поверх этого мига, который для убийцы Моцарта есть «звездный час». Ибо Моцарт неубиваем, как неубиваем дух. Неспроста даже и Сальери нечаянно уподобляет его «некоему херувиму», то есть именно нетленному, бессмертному существу. И это уподобление срывается с языка Сальери даже не под влиянием свежего впечатления от музыки Моцарта (как, например, возглас: «Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь»), но в рассуждении наедине с собою, как некая самоочевидность.
Судьба Сальери – убийство. Судьба Моцарта – творчество, созидание. (Созидательность гения подчеркнута, кстати, словесной перекличкой в конце «маленькой трагедии», когда поминается «Бонаротти»: «Гений и злодейство – Две вещи несовместные… и не был Убийцею создатель Ватикана…») Созидание сопутствует физической жизни Моцарта вплоть до последних ее минут. «Мой Requiem меня тревожит…» – и он продолжает играть, наполняя «звуками… душу», даже когда уже «нездоров» от выпитого яда.
А Сальери? Он не показан Пушкиным за музыкой! За клавесином или фортепьяно… Потому что Пушкин ведет речь о подлинной – немузыкальной – природе Сальери, а не о его «профессии», избранной им «профессии музыканта». Эта профессия – антипод призванию – не имеет для Пушкина никакого самоценного значения. И даже «Ла ла ла ла» из оперы Сальери, этот «один мотив», напевает нам Моцарт. Словно бы этот мотив может «стать» музыкой, соприкоснуться с нею только посредством Моцарта. Самого же Сальери Пушкин не подпускает непосредственно к музыке, к творчеству, ибо это означало бы сказать неправду о герое. Художественную неправду. Как и неправду об искусстве. Пушкин в своей обрисовке Сальери так же правдив, верен натуре, как правдив и верен натуре он в обрисовке противоположной тому фигуры – Моцарта. Который у Пушкина весь и всегда за музыкой. Созданной и создаваемой им… Так появляется он на сцене – в сопровождении «скрыпача слепого», играющего «арию из Дон Жуана» («Из Моцарта нам что-нибудь!»); так и покидает он сцену, исполняя «мой Requiem».
Творчество, эта судьба Моцарта, обнимает собою всю его жизнь. Вся его жизнь направлена на созидание и тем самым против смерти, и потому даже при смерти звучит – вопреки ей, поверх нее, над нею – «мой Requiem». Так «надзирает» судьба над жизнью (вплоть до самой гибели) Моцарта, не оставляя никакого «зазора» между его жизнедеятельностью и его природой. Жизнедеятельность Моцарта до последнего его вздоха соответствует природе его – природе «сына гармонии».
За что ж он погиб? «Для чего» он погиб? То есть как можно понять смысл этой гибели из пушкинской «маленькой трагедии»?
Если бы Моцарт просто умер, мы знали бы только о бессмертии его искусства вопреки смертности самого творца. Насильственная же гибель Моцарта не только не повредила этому бессмертию, но, как ни странно, сама по себе тоже послужила творчеству – доказательству всеобъемлющей идеи созидания. Послужила невольно, и – доказательством от противного: от антисозидания как смерти. Эта насильственная гибель, которая происходит при музыке, при звучащем еще, только что созданном великом «Реквиеме», это прямое пресечение музыки убийством так противопоставили творчество – «злодейству», убийство – творчеству, что о созидательной сущности гения стал – под конец пьесы – догадываться, хотя и смутно, даже такой умствующий антитворец, каков Сальери: «…ужель он прав, И я не гений?.. И не был Убийцею создатель Ватикана?» И во всяком случае, впервые в своей жизни Сальери размышляет об отсутствии у него «священного дара» в связи со своими поступками и общими свойствами своей личности, которые даются («небом»?) уж точно не гению. Наличие которых является верным знаком отсутствия «священного дара»…
Трагическая гибель Моцарта в пушкинской «маленькой трагедии» возвела разговор о сущности искусства к разговору о жизнетворной функции искусства, о значении искусства для самой жизни людей. Она показала, что сущность искусства заключает в себе уже и значение его для людей: для самой жизни их… Ведь «музыку… разъял, как труп», а потом убил Моцарта в полном расцвете его созидательных сил не просто алгебраист-анатом, не просто завистник, но жизнененавистник, надменно отрекшийся от огромного мира, мучимый «жаждой смерти»… Трагическая гибель Моцарта доказала ту формулу искусства, которая, будучи, казалось бы, самой общей, вместе с тем и самая точная. Формулу, которая заключает в себе, говоря языком точных наук, необходимое и достаточное антиусловие творчества. «Гений и злодейство – Две вещи несовместные». Эта формула навсегда отметает все расширительные толкования искусства, когда подоплекой, следствием, тайным или явственным пафосом его оказывается убийство. Труп пушкинского Моцарта вечно лежит на пути таких толкований. Его не обойти. Не спрятать под покровом «творческой ночи». И «широким» эстетикам остается, подобно Сальери, бесславно, многоречиво («слова, слова, слова») препираться с Моцартом, с «небом», восклицая над трупом «музыки»: «…Неправда», – тщась совместить с гением убийство Гармонии…
А для того, чтобы кардинальная, бескомпромиссная и неизменная суть творчества, то есть «священного дара», стала особенно внятной миру, понадобилось, чтобы Моцарта убил не простой «злодей», но «музыкант-профессионал», номинальный «коллега» Моцарта, или, по-современному говоря, почтенный «делатель ценности». Выбор именно такого героя подчеркнул непреложность бездны между творчеством и не-творчеством, пусть последнее обряжено в мантию «науки», тогу «служителя музыки», прикрыто торжественными рассуждениями о «правоте», «любви горящей», «долге». Выбор именно такого героя подчеркнул особую особость творчества – хоть бы и в сравнении с «усердной», оснащенной «наукою», «самоотверженной» работой «профессионала»[3 - Речь идет о явлении более глубинном, чем лично-пушкинский, авторский, выбор. Ибо невозможно представить себе, чтобы Пушкин, да еще и столь близкий к эпохе, о которой ведет он речь, мог произвольно выбрать в герои-злодеи историческое лицо, каков А. Сальери. Тут уместно вспомнить исчерпывающие слова Гоголя: «Если сам Пушкин думал так, то уж, верно, это сущая истина».].
«Наука», «ремесло» – вот, как замечено было, понятия, соседствующие в пушкинском тексте и в сознании Сальери со смертью. «Ремесло Поставил я подножием искусству», – говорил Сальери, когда имелись в виду еще кабинетные теоретические деяния: «Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп», «…он слишком был смешон Для ремесла такого», – говорит в конце трагедии Сальери, сомневаясь, что «Бомарше кого-то отравил»… Так понятие ремесла неизменно – и все ближе – смыкается с убийством. Бессознательное как будто, со стороны Сальери, повторение слова «ремесло» во внешне разных контекстах выдает мысль, «плавающую» в подкорке и приходящую на язык как стойкая «метафора» будущего, непреложно практического, чудовищного деяния Сальери. Это, Сальериево, ремесло – разрушительно, в отличие от созидательности творчества. Это ремесло «разымает» дух, как и вообще разымает мир (на «музыку» и «праздные забавы», «науки, чуждые музыке»). А «степень высокая» в ремесле, или в разымающем «искусстве», совпадает со статусом отравителя, убийцы.
Выбор именно такого (как Сальери), «причастного» к «музыке» героя обнажил даже не несходство, но прямую полярность гения и убежденного человека ремесла, пусть они, по видимости, и заняты как будто одним и тем же – хоть, например, «музыкой».
Отношения «профессионала» и творца, ремесла и «священного дара», «алгебры» и «гармонии» проходят через убийство, выливаются в убийство, венчаются убийством, имеют развязкой убийство – вот объективная мысль «маленькой трагедии».
Эти отношения, как и эту мысль, можно выразить и на иной лад: Моцарт и Сальери суть лица несовместные.
* * *
Их несовместность угадывается даже тогда, когда Моцарт по видимости едва ли не буквально повторяет слова Сальери:
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов, —
говорит Моцарт.
Мы все, жрецы, служители музыки, —
говорил незадолго перед тем Сальери.
Однако Моцарт вносит некоторую поправку: «жрецы музыки» становятся у него жрецами прекрасного. И уже это способно подсказать нам, что Моцарт и Сальери говорят о разном. На место профессии, формального рода занятий, каким для обоих является «музыка», Моцарт ставит нечто совершенно неконкретное, неуловимое и потому никак не могущее обернуться профессией: прекрасное. Оно во всяком случае шире, да и выше (первородней, первичней) собственно «музыки», и «музыка» – это, пожалуй, лишь возможная форма его проявления (воплощения, «вочеловечения»), Моцарт говорит о «едином прекрасном», и «единое» можно понять тут как «только», «единственно» (только прекрасного – жрецы). Но вправе мы воспринять это слово и как прилагательное (определение) к «прекрасному»: единое прекрасное, то есть именно – открывающееся не в одной «музыке» или через «музыку», но и озаряющее, проникающее также и другие сферы духа, и уже в силу этой своей емкости известным образом господствующее над «музыкой». Не оттого ли, кстати, говорит Моцарт и о «сыновьях гармонии», а не «музыки»? Ведь гармония тоже, как и прекрасное, шире, вездесущней (верховней, первичней), больше собственно «музыки»… И как не заметить, что в обоих случаях Моцарт уходит от прямого поименования конкретного рода занятий, так сказать – профессии, возводя работу свою, творчество, к сферам общим, «единым» и высшим. Имя им: «прекрасное» или – «гармония»… О, не просто «музыке», но Красоте, Единству и Полноте Духа служит Моцарт, музыкант, компонист, посредством своего «вольного искусства»! И жречество его («жрец прекрасного») тоже не профессия, не нарочитая приставленность (хоть и самоприставленность), а всецелая внутренняя предназначенность. Избранность, как говорит Моцарт. И – счастливая избранность. Тем уже счастливая, что посвящена не частной какой-либо и оттого относительной ценности, но многовеликому, многоединому Абсолюту – прекрасному…
Но если «музыка» – одна из возможных форм воплощения прекрасного, то «жрец музыки» не является ли тем самым и «жрецом прекрасного» – одним из возможных его жрецов?
Однако «мы», «нас» в речах Моцарта и Сальери предполагают все же разных людей, разные группы людей – разных «жрецов».
Говоря, что «музыка» – возможная форма жизни прекрасного, следует уточнить: возможная – это не только не единственная, но и не заведомая. То есть «музыка» может быть и может не быть сопричастной прекрасному. Как не сопричастна ему, «песням райским», Сальериева, к примеру, «музыка». (Которая соотносится с прекрасным разве что так, как стихи соотносятся с поэзией.)
«Жрец музыки» – вообще говоря – не «жрец прекрасного»: называя себя так – суженно, замкнуто-предметно, «вещественно», – он невольно выдает, что видит в «музыке» (искусстве «звуков») некую самоцель, самоценность. Что «музыка» для него не – подчиненная – форма (одна из форм) бытия прекрасного, а равная сугубо себе, самодовлеющая, отграниченно-суверенная сущность.
Отношение между «музыкой» и «прекрасным» – это отношение между малым (а также частным, единичным, случайным) и большим (великим, всеобъемлющим, полным и неделимым). Это лишь на первый взгляд математическое соотношение. Ибо малое не всегда часть большого, малое – это также и враг большого, возможный враг. Великое не растет (не суммируется!) из малого, но может разве что отражаться в нем, или точней: озарять его, преображая его, подымая его к себе. (И, разумея как раз последнее, мы говорим о достаточной условности «степеней» в искусстве и обобщаем явления «священного дара» формулой: все – искусство, что – искусство!)
Собственно, Моцарт и Сальери имеют в виду даже и разное число людей. «Нас мало избранных…» (Моцарт). Мало, ибо иначе б «не мог И мир существовать; никто б не стал Заботиться о нуждах низкой жизни». Мало, а вместе с тем столько, сколько и должно для гармонической целостности мира…
«…Не то мы все погибли, Мы все жрецы, служители музыки, Не я один с моей глухою славой…» – слышим от Сальери. И это двойное «мы все… мы все… Не я один…» нечаянно открывает нам, что их много, этих «жрецов», этих профессионалов «музыки» с их «глухою славой»… Этих служителей «малого культа», узкого культа, каждый из которых ревниво, завистливо, самодовольно и «надменно», как Сальери, «предался Одной музыке»… Каждый из которых может и, пожалуй, готов – жрец! – обагрить жертвенной кровью («некоего херувима», «безумца») темный алтарь своего божества, имя которому: Прах. Ибо толпятся вкруг этого алтаря (не «сыновья гармонии»!) «чада праха», «жрецы» тож…
«Отверг я рано праздные забавы»; и о Моцарте: «гуляка праздный», – говорит Сальери… И Моцарт подхватывает то же слово, охотно соглашаясь с определением, которое дал Сальери ему, Моцарту: «Нас мало избранных, счастливцев праздных…» Однако этим же Моцарт – походя – не исключает ли из круга «нас… избранных» самого Сальери, рано отвергшего «праздные забавы», изначально отвергшего?.. Но еще важнее смысл, который вкладывает Моцарт в это слово – «праздные», говоря о малом своем меньшинстве.
Сальериев «гуляка праздный» ближе всего к тому, о чем в «Скупом рыцаре» гневно говорит Барон: «…расточитель молодой, Развратников разгульных собеседник!», – поминая далее «игрока, который Гремит костьми да груды загребает»…
И вовсе другое, неузнаваемо иное – у Моцарта: «Нас мало избранных, счастливцев праздных, Пренебрегающих презренной пользой, Единого прекрасного жрецов»…
«Праздный» у Моцарта – это антипрагматик, антипрактицист; он противостоит «презренной пользе» – низкой, своекорыстной, эгоистической целенаправленности, пренебрегая слепою «пользою», слепою «рациональностью» во имя высокого смысла бытия – «единого прекрасного»… «Праздный» равен «гуляке», «расточителю», «разгульному» бездельнику («игроку») или «безумцу» («Безумец, расточитель молодой», – как восклицал Барон, а вслед за ним: «безумец, гуляка праздный», – Сальери) лишь с точки зрения этой «презренной пользы».
«Праздный», по Моцарту, это не бездельник («гуляка»), но антиделатель. Это человек щедрого вдохновения, которое само по себе есть, конечно, праздник духа, легко и естественно внемлющего «единому прекрасному». Это человек «вольного искусства», а не «усильного, напряженного постоянства» и вымогающих «молений». «Праздный» – это свободный, обладающий даром свободы, необходимой для вдохновения. И «праздный» – это, конечно же, человек антисуеты и в силу этого уже – счастливец, не ведающий, например, забот о славе, мук зависти… Моцарт ни разу не поминает о славе, хотя и называет себя «счастливцем», в то время как на устах Сальери «слава» – радостно или горестно, но именно как мерило счастья – возникает то и дело: «…Не смея помышлять еще о славе»; «Слава Мне улыбнулась…»; «Я счастлив был: я наслаждался мирно Своим трудом, успехом, славой…»; «Не я один с моей глухою славой…»
С точки зрения «презренной пользы», самодовлеющей «низкой жизни», «праздный» – не только не делатель, но и не деятель. «Праздный («гуляка» – брат «лежебоки!») – это как бы заведомое отрицание любых деятельных, действенно целенаправленных качеств. Это – сплошное «без» (сплошное «не»!): бездеятельного, «безумца» томит, оказывается, и «бессонница»… Она как будто не только не следствие «напряженности» труда, но, напротив, бездеятельный его источник, «праздный» побудитель его:
…Намедни ночью
Бессонница моя меня томила,
И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня я их набросал, —
говорит Моцарт.
И из всей этой «праздности», всех этих «отрицаний» какого-либо действия, а тем паче делания, имеющего «усильность», «напряженность» и урочное «постоянство», рождается – воистину прав Моцарт! – та безделица, о которой Сальери, со всем своим чутьем опасности, не может не воскликнуть: «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!»
Кстати, «смелость» – быть может, важнейшая, в устах Сальери, черта его триединой оценки Моцартовой «безделицы». Ибо «глубина», по Сальери, как мы знаем уже его, – это то, что подвластно измерению и тем самым некоторому «освоению» (меряет же он «высоту» в «безграничном»!). «Стройность» – это то, что можно, пожалуй, выстроить или «придать» (как перстам была придана «сухая беглость»). Но вот смелость, даже для него, не поддается алгебраической формуле или линейке. Сальери не может ее ни исчислить, ни себе «придать», ибо как смелости научиться: ведь это смелость «праздности» («безделья», «безученья»), смелость творческой «неги» – или из «неги» и «праздности» рожденная смелость!
Вспомним, как Сальери говорил о себе: «…Тогда уже дерзнул, в науке искушенный, Предаться неге творческой мечты…»
«Дерзнул»… Как будто речь идет о трудном. Труднейшем для него, чем «наука»!.. Значит, «нега», как и «праздность», труднодоступна, труднодостижима? «Дерзнул»… Как будто речь о рискованном, опасном?.. О некоем внезапном превышении своих прав или возможностей… О некоем вызове – себе самому, своей природе. О поступке демонстративном, натужном, неорганичном и потому небезопасном…
«Дерзнул… предаться неге…» – надо прочесть как: дерзнул быть смелым, предаться смелости.
Вот как – рискуя собою – «Сальери гордый» медленно погружался в свою – тогда еще «беззвездную» – «творческую ночь».
* * *
Да, Сальери – мгновениями – словно бы догадывается, что творчество, вдохновение сопряжено не с тою «наукой», в которой он вполне искушен, не с теми «невзгодами», которые он «преодолел», не с тем ремесленническим трудом, в который он «так жарко верил», не с тем умением, которому «послушны» его «персты» и «ухо», но со смелостью или, иными словами, с некоей негой или же праздностью – Моцартовой «праздностью»… Что творчество возникает как будто и прямо из «праздных забав» или по крайней мере совершенно рядом с ними – как возник Requiem Моцарта:
…На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать…
Но все существо Сальери противится этой простоте, этой «незаслуженной» награде за «праздность». И умный Сальери находит наконец объяснение всей этой «нелепости», «безумной» этой простоте: «Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь; Я знаю, я»… Заметим, что Сальери дважды – охотно! – уподобляет Моцарта неземному существу: «бог», «некий херувим». Но столь высокое как будто признание Моцарта есть, в устах Сальери, окончательный, смертный Моцарту приговор. Назвав Моцарта «богом», Сальери уже неостановимо, стремительно движется к убийству.
Послушай: отобедаем мы вместе
В трактире Золотого Льва, —
тут же говорит он и вспоминает о «заветном даре любви» – яде.
Ибо что такое для Сальери, этого «чада праха», бог?
Дело не только в том, что «бог» («бессмертный гений» тож) кардинально противостоит «нам, чадам праха». Дело еще и в естественно заданном отношении самих «чад праха» к «богу». Это, конечно же, враждебное отношение. И может ли оно быть иным у того, кто, любя себя, ощущает себя, однако, не «божьим» чадом, но «чадом праха»?.. Тут возможны даже и покорность, и страх; и изумление (перед «песнями райскими», например), и, наконец, болезненное, экзальтированное восхищение, – но не любовь, не сердечная вера, не духовная послушность.
И вот «бог» – для Сальери («небо» тож) – это только символ неправоты, хоть и имеющей власть над землей, над «чадами праха», над «тупой, бессмысленной толпой». Но, как всякая неправая (непонятная почуждости ее), даже «безумная», эта власть, конечно, оспорима. (Подобно тому, как безумие вообще оспоримо умом.)
Неправота, «неправда» бога, или «неба», ясна искушенному в разных «науках ума» Сальери, как ясна ему «простая гамма», и этот «бог» ему, в сущности, совершенно неинтересен: неполезен. Назвав Моцарта богом, Сальери вместе с тем, – быть может, как никогда досель, – сомневается: «Что пользы в нем?» – в «боге», или в «некоем херувиме», или в «неправом» небе, праздно, напрасно, бесполезно посылающем – с «летучим» божественным неким существом – «несколько… песен райских», чтобы на миг, обманно и воистину праздно – тщетно – возмутить «бескрылое желанье В нас, чадах праха»… Ибо Сальери собою («нами» – вон теми кропотливыми муравьями в кружевах и камзолах) привычно подменяет целый мир, в его глазах – заведомо «бескрылый».
С тех пор как Сальери увидел в Моцарте «бога», его уже не заинтересует музыка Моцарта. Сальери утвердился в сознании ее бесполезности, или, иными словами, «неправоты»:
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?..
Requiem, несомненно, и это, конечно, может предположить Сальери, – и есть «новая высота» Моцарта. Новая высота – хоть бы в сравнении с тою «безделицей», с которой Моцарт пришел к нему накануне, поясняя ее: «Представь себе… кого бы? Ну хоть меня, немного помоложе… Я весел… Вдруг: виденье гробовое…» Сальери нетрудно догадаться, что то, прежнее, «виденье гробовое, внезапный мрак…», о чем он, Сальери, мгновенно воскликнул тогда: «Какая глубина!..», – могло развернуться в Requiem’e уже с грандиозной мощью. Но Сальери «бросает яд в стакан Моцарта», ничуть не заинтересовавшись новой Моцартовой высотой – не думая о том, что может уже не успеть услышать от Моцарта его Requiem. Он не хочет слушать музыки Моцарта, а чуть позже, когда Моцарт уж выпил свой стакан и «идет к фортепиано», не может уже слушать и слышать, и «звуки» могучего «Реквиема» суть для Сальери лишь подтверждение реальности его, Сальери, блаженного самобытия, принесшего ему легкость, приятность, счастливую тишину полной собою его наконец-то свободной «души»…
* * *
Но сознает ли все это Моцарт?