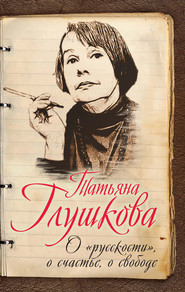скачать книгу бесплатно
* * *
Это вечно будет поражать в Сальери: он не верит в изначальное бытие, а верит в становление. Он не вериг в природу, не верит природе, и потому он в вечном конфликте с нею, упорно занимаясь ее переделыванием. Если говорить языком самого Сальери, он не верит в «небо».
Как передельщик, не столько осуществляющий себя, свое натуральное бытие, сколько планирующий свое «становление», то есть рукотворное, насильственное преображение, он человек метода.
Методы Сальери разнообразны, а вернее сказать, они, будучи формами насилия делателя, разворачиваются по типу крещендо, «…перстам Придал послушную, сухую беглость И верность уху…» – помним мы о начинающем Сальери. И это был метод. Метод стать гением. Убийство Моцарта, по логике Сальери, – тоже метод. Который служит тому же. Другое дело, что, обдумываемое как метод, оно явилось, однако, прямым осуществлением подлинного Сальериева бытия. Самой натуры Сальери…
В какой-то мере это неожиданно для него: он не знал, что убийство, к которому готовился тяжко, мрачно, торжественно, привлекая многословные доводы – натужные выкладки ума, будет для него столь сладостным, легким, приятным всему его существу: «Как будто нож целебный мне отсек Страдавший член!»; что оно исторгнет у него слезы, и именно эти слезы – счастья, глубокого счастья, о которых он говорит: «Впервые лью…»
Эта душевная легкость, приятность, живая растроганность Сальери, «незапно» пришедшая на смену испугу («Ты выпил!., без меня?»), – мало сказать, что она не связана с Моцартом: она связана с убийством, с самим этим злодейским деянием.
Вспомним слова Барона из пушкинского «Скупого рыцаря» – другой «маленькой трагедии», написанной в ту же осень 1830 года, что и «Моцарт и Сальери», и расположенной в цикле «маленьких трагедий» непосредственно перед «Моцартом и Сальери»:
…Какое-то неведомое чувство…
Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность.
…то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе…
Вот мое блаженство!
Очевидна лексическая и синтаксическая общность этого отрывка и речи Сальери в миг убийства: «…и больно и приятно… Как будто нож целебный мне отсек Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы… Не замечай их…».
Кстати, здесь впервые обращение Сальери к Моцарту звучит нежно. Из речи Сальери впервые уходит та – обычно подспудная, с трудом подавляемая – раздраженность, которая присуща всем его диалогам с Моцартом и на которую Моцарт однажды даже и прямо обращает внимание: «Ты, Сальери, Не в духе нынче. Я приду к тебе В другое время»… В тот раз Сальери преодолел себя: «Ах, Моцарт, Моцарт! Когда же мне не до тебя?..» Да ведь он и не собирается, при всей раздраженности, порывать с Моцартом. Ему и впрямь всегда до него, Моцарта, постоянно тревожащего его мысли, отравляющего все его дни, грозной тенью нависшего над всей его сущей и будущей судьбой… Его влечет этот беспечный мучитель, как влечет жертву – нечаянный ее, невольный – палач. Сальери отнюдь не желал бы «поссориться», порвать с Моцартом до той настоящей развязки их отношений (несводимой к мелочно-досадливой ссоре), когда «безумец», мучитель, «гуляка праздный», олицетворение «злейшей обиды», сам станет жертвой – уж не мучением, но источником наслаждения Сальери. Но раздражение, глухой ропот вечно покоробленной, «шокированной» при Моцарте Сальериевой души («И ты смеяться можешь?..»), лицемерная, усильная любезность, едва сдерживаемое желание оспорить всякую Моцартову мысль, реплику, жест, поступок, которое порой принимает форму двусмысленного полусогласия (или вежливого несогласия), пресекающего разговор («Ты думаешь?..») либо переводящего его на другое («Что ты мне принес?» – в ответ на предложение Моцарта прийти «в другое время»), – все это сохраняется при обеих встречах Сальери с Моцартом, и сентенция Сальери: «Ты, Моцарт, недостоин сам себя», – в которой слышно и высокомерие, и тайный гнев, и досада, – в сущности, висит в воздухе все время. «Другое время» наступает лишь при убийстве. В миг убийства, в прямом преддверии его. Только когда дело убийства для Сальери уже решено, он становится легок, весел – и впервые говорит нечто зажигательное, бравурное, чуть ли не «лицейски-пушкинское»:
И, полно! что за страх ребячий?
Рассей пустую думу. Бомарше
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».
Душа Сальери ничуть не смущена страхом – предощущением смерти, которым охвачен Моцарт («Мне совестно признаться в этом… Мне день и ночь покоя не дает Мой черный человек. За мною всюду, Как тень, он гонится. Вот и теперь Мне кажется, он с нами сам- третей Сидит»), Страх Моцарта лишь воодушевляет Сальери, сообщая ему как будто только уверенность в себе: все, все, вовсе независимо от Сальери, как заказ «черным человеком» Requiem’a, как вот это собственное настроение, тревога, «пасмурность» Моцарта, подтверждает: смерти – быть, убийству произойти! Страх Моцарта бодрит и радует Сальери, хотя лицемерие, а собственно – коварство, Сальери достигает тут апогея: он-то знает, что вовсе не ребячий страх, не пустая дума тягчит сейчас сердце Моцарта… А когда яд брошен уже в стакан Моцарта, на смену веселости приходит даже и нежность: конечно же, странная, садистическая нежность – палача к жертве, лишенная всякой жалости и обусловленная именно полной обреченностью жертвы, всецело предоставленной палачу, к полной свободе его наслаждения… И счастливый Сальери впервые косноязычен: «Друг Моцарт, эти слезы… Не замечай их. Продолжай, спеши…» – почти задыхается он от полноты «звездных» своих ощущений. «Друг Моцарт» – звучит почти как «дружок», с мягкостью, «слабостью», чуть ли не добротой, столь не свойственною Сальери. Так обращаются в минуты растроганности, безотчетной ласковости к миру – обращаются даже не непременно к друзьям, но к любому свидетелю, любому присутствующему при счастье. Впрочем, тут свидетель, «друг» – это одновременно и сама причина, источник счастья, служащая ему совершенно безропотная, в неведении своем, жертва, столь сладостная палачу…
«…Как будто нож целебный мне отсек Страдавший член!..»; «…и больно и приятно…» И как же не вспомнить тут пушкинского Барона:
Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность…
Трудно усомниться во взаимосвязанности пушкинских «маленьких трагедий» – всех четырех – друг с другом. Их герои перекликаются между собой, живя в едином – пушкинском – космосе, насквозь пронизанном их лучами и тенями. Эти перекликания разнообразны: прямые и косвенные, порою причудливые. Тут «двойники» и маски, зеркала сходств и перевернутых изображений. Потому-то читать да и ставить на сцене должно «маленькие трагедии» не выборочно, а в полноте их четырехчастного, подобного грандиозному катрену, стройного цикла: тогда-то и почувствуешь как многолюдность (многохарактерность) каждой из них, так и черты сквозного действия в душах героев, сквозные черты характеров, хоть и преображенных…
А возвращаясь непосредственно к «Моцарту и Сальери», добавим, что сопряженную с убийством легкость, приятность, растроганность испытывает Сальери от ослепительной, полностью осуществленной встречи с собою. От обретения себя.
Подлинная встреча с собою подразумевает для Сальери прощание с Моцартом. Вечную разлуку с ним.
…Ты заснешь
Надолго, Моцарт!
И это воистину «звездный час» Сальери. Миг или час его – небывалой – свободы. «Звездный час» делателя, впервые раскрепостившегося от «усильности», «напряженности» («горьких воздержаний, Обузданных страстей», как сказал бы пушкинский Барон) и чуждой ему роли «служителя музыки».
* * *
Непривычную счастливую легкость, счастливую опустошенность переживает Сальери. Блаженную тишину утоленной души… В которой в этот миг не клокочет ревность, не гнездится змеею – скользнула на волю! – зависть; не страдает – таимая прежде – ненависть, – и так непривычна, странна блаженная эта тишина… Не оттого ль: «…Друг Моцарт… Продолжай, спеши Еще наполнить звуками мне душу…»?
Падающая в гулкую, «чистую», свободную пустоту этой сбросившей давний тяжкий гнет «души» музыка Моцарта в этот миг для Сальери – просто звуки. Точно падающие гулкие капли воды… Не «гармония», не «песнь райская», а – «звуки»!.. У Сальери, у тонкого этого «моцартоведа», впервые как будто нет слов, нет эстетических мыслей, бодро возникавших прежде при слушании Моцартовой музыки; нет – хотя звучит гениальный Моцартов Requiem – этих восклицаний: «Какая глубина!..» Потому что он, в сущности, не слушает в этот миг, не слышит, и напрасно было приглашение Моцарта: «Слушай же, Сальери, Мой Requiem», – ибо Сальери сейчас наконец-то просто свободно живет, и на фоне этой всколыхнувшейся в нем, воспрянувшей его жизни, оторвавшейся, отторгшейся наконец от «музыки», усильности, музыка Моцарта выглядит для него только полыми, гулкими (безотносительными к «гармонии», «гению», «вдохновенью»), абстрактными звуками…
* * *
Да, тут, в предпоследнем своем коротком монологе, в миг убийства, Сальери впервые сбрасывает маску. Маску, отчасти, может быть, сросшуюся с его лицом. Не потому ли срывать ее «…и больно…»? Маску «жреца музыки», долго заслонявшую от нас это лицо.
«…Есть люди, В убийстве находящие приятность»… Значит, Сальери непреложно жесток? Но разве ж не был он, на свой лад, жесток и к себе самому, пытаясь выделать из себя то, что не сродно его натуре? «…Нередко, просидев в безмолвной келье Два, три дня, позабыв и сон и пищу… Я жег мой труд и холодно смотрел, Как мысль моя и звуки, мной рожденны, Пылая, с легким дымом исчезали…» Жег, ибо напрасной была эта аскеза, неплодотворными – годы тяжелого «усердия»… Но Сальери и дальше был беспощаден к своей натуре: «…Что говорю? Когда великий Глюк Явился и открыл нам новы тайны (Глубокие, пленительные тайны), Не бросил ли я все, что прежде знал, Что так любил, чему так жарко верил, И не пошел ли бодро вслед за ним…»
В этих «самосожжениях» Сальери (а их на пути его немало – пожалуй, даже слишком много) усматривают обычно высокую «самовзыскательность художника». Но: «Я жег мой труд и холодно смотрел…» Так смотрят на чужое. Даже – чуждое… Не то – у Моцарта:
Не приходил мой черный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem.
С «вольным искусством» всегда «жаль расстаться»: оно само по себе награда, радость, даже если б и оказалось ниже какого-либо другого создания и даже если пророчит гибель («Мне день и ночь покоя не дает Мой черный человек…»; «Признаться, Мой Requiem меня тревожит»)…
А Барон из «Скупого рыцаря» и впрямь похож иными чертами на аскетического, «самосжигающегося» Сальери:
Кто знает, скольких горьких воздержаний,
Обузданных страстей, тяжелых дум,
Дневных забот, ночей бессонных мне
Все это стоило?..
Только над Бароном свершается возмездие уже в рамках «маленькой трагедии», когда он, в очередной раз, ту жестокость, какую применял к себе, обращает во внешний мир, к другому человеку.
Похожи Барон и Сальери и в их восприятии своих «врагов».
«Безумец, расточитель молодой… Он сундуки со смехом отопрет… – говорит Барон о сыне, рыцаре Альбере. – А по какому праву?..»
«Где ж правота…» – восклицает в сходных обстоятельствах Сальери.
И не вспомнится ли адресованное Моцарту – «гуляка праздный» – при дальнейших словах Барона: «Мне разве даром это все досталось, Или шутя, как игроку, который Гремит костьми да груды загребает?..»
Впрочем, Барон – характер куда более открытый, прямой, чем Сальери. Это воистину человек страсти, в отличие от Сальери, человека рассудка. В силу этого- то он и более правдив в рассказе о своем пути:
Да! Если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп – я захлебнулся б
В моих подвалах…
Барон в какой-то мере даже и совестлив:
…Иль скажет сын,
Что сердце у меня обросло мохом,
Что я не знал желаний, что меня
И совесть никогда не грызла, совесть,
Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть,
Незваный гость, докучный собеседник,
Заимодавец грубый, эта ведьма,
От коей меркнет месяц и могилы
Смущаются и мертвых высылают?..
Нет, выстрадай сперва себе богатство…
Барон мужествен в оценке своего пути. И чего-то да стоит эта троекратная «совесть» – слово, совершенно немыслимое в устах Сальери! Как и страдание («выстрадай…»), вызванное муками совести… Не только перед убийством, в миг убийства, но и после убийства Сальери равно и абсолютно далек от чего-либо подобного. «…Гений и злодейство – Две вещи несовместные. Неправда», – пререкается он с убитым. Не совесть, а «логика», эмпирическая, формальная правота мысли тревожит его и та же, привычная, эгоистическая забота самоутверждения.
Барон – человек порочной страсти.
Сальери – «безупречного», неукоснительно бодрствующего рассудка.
Будучи человеком страсти, Барон не тщеславен. И нет никаких оснований думать, что он завистлив: «Я выше всех желаний; я спокоен; Я знаю мощь мою: с меня довольно Сего сознанья…».
Будучи человеком страсти, Барон выбирает не умозрительную, а реально-жизненную цель (материальная, «физическая» власть над людьми), как и реальное средство достижения ее (золото), хотя такая реалистичность человека страсти и кажется парадоксальной – если сравнить ее с фантастичностью замыслов человека рассудка. Барон не стремится к тому, чего невозможно достичь золотом: так, он надеется поработить «вольного гения» (уповая на земные страсти его) своим золотом, однако не посягает на то, чтобы самому стать этим гением в его возвышенной, бессмертной природе. Он достаточно трезв или честен, чтобы, наоборот, сравнить себя с демоном, а не тягаться славою с «неким херувимом» или «бессмертным гением»: «…как некий демон Отселе править миром я могу». Он не завышает возможностей своей природы и достигает своей правильно поставленной дели. Он спокоен, ибо достиг, в собственном ощущении, той цели, к которой стремился: «Послушна мне, сильна моя держава; В ней счастие, в ней честь моя и слава! Я царствую…» Не полагая свою цель благой, не приукрашивая ни ее, ни своего пути к ней, он сознает осуществление ее как полноту своего бытия, и его беспокоит разве что судьба его «державы» после его смерти: «…о, если б из могилы Прийти я мог сторожевою тенью Сидеть на сундуке…»
Сальери же – вечно слаб, вечно неспокоен. Сальери вечно раздражен, менее или более, – то «дикими парижанами», пленившимися музыкой Пиччини, то Моцартом который безнадежно отбросил его далеко вниз, к «чадам праха»…
«Счастие», «честь» и «слава» Барона объективны, ибо в мире денег золото дарит объективную силу и власть.
Счастье Сальери – тревожно, призрачно, условно. «Я счастлив был», – говорит он, разумея внешнюю успешность своей жизни до Моцарта. Но это всегда было угрожаемое счастье, и оттого-то, даже «в счастье» – «мнил я, злейшего врага Найду…». Это было мимолетное, вечно угрожаемое и, в сущности, совершенно иллюзорное счастье, ибо в мире музыки, в котором желал царствовать Сальери, внешний успех, улыбка славы не есть объективный залог власти, ее прочности…
Сальери, в сравненьи с Бароном, безысходный неудачник, который вечно ниже честолюбивых своих желаний и никогда не достигнет своей честолюбивой цели. И истинное счастье открывается ему не в действительном приближении к поставленной цели, но в средстве, якобы служащем ей, – в самом злодеянии, которое для Барона отнюдь не было самоценным источником «блаженства» и более того – вызывало в душе его «когтистого зверя, скребущего сердце» – совесть, «от коей меркнет месяц и могилы Смущаются и мертвых высылают»… Сальери неправильно выбрал цель, способную дать ему счастье. Он выбрал «музыку», желая первенствовать в «музыке», чуждой его сухой и разве что сентиментальной душе. И, может быть, ему следовало как раз, подобно Барону, выбрать золото, дающее «счастие» и власть, пропорциональные количеству «усердия» – пропорциональные самому количеству накопленного золота. То есть он мог бы и впрямь возвыситься – «царствовать» – именно в сфере «низкой жизни». И, пожалуй, не будет грубым парадоксом сказать: Сальери – это своего рода горький двойник Барона. Хотя в то же время он угадывается и в той разномастной толпе, что колышется за плечами Барона, – ну хоть бы в Товии:
Жид
…Товий торг ведет иной —
Он составляет капли… право, чудно,
Как действуют они.
……………………
В стакан воды подлить… трех капель будет,
Ни вкуса в них, ни цвета не заметно;
А человек без рези в животе,
Без тошноты, без боли умирает.
Альбер
Твой старичок торгует ядом.
Жид
Да —
И ядом.
* * *
Обращаясь к яду, яду для Моцарта, Сальери лжив, нелогичен в мыслительных доводах в пользу убийства, но впервые прям и правдив в поступке, действии, наконец – в чувстве (впервые выпущенном им на свободу). Потому что рационалист тоже «может иметь чувства». Свои, особые чувства. Те, что ищут себе оправдания в рассудке. Чувства, которые «разумны». Не доброта, а разумность, иными словами – полезность, – вот мерило, «этическое» мерило этих чувств… Та полезность, которая для Моцарта «презренна» и относится всецело к области самодовлеющей «низкой жизни».
Чувство, выпущенное на свободу Сальери и обеспечившее ему «звездный час», или, пожалуй, чувства – это зависть и ненависть, мучительно снедавшие его. Свобода ненависти! Свободная, действенная ненависть – вот «нож целебный» (нож полезный), который «мне отсек Страдавший член!». И от этой полезности, устранившей страдание, Сальери счастлив…
Что Сальери не друг Моцарту, а именно ненавидит его, так же «глубоко, мучительно», как и завидует ему, – Пушкин выразил с непреложною ясностью. Вот ведь что рассказывает Сальери:
…сидел я часто
С врагом, беспечным за одной трапезой,
И никогда на шепот искушенья
Не преклонился я, хоть я не трус,
Хотя обиду чувствую глубоко…
……………………………………………………………
Как пировал я с гостем ненавистным.
Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты —
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.
И я был прав! и, наконец, нашел
Я моего врага…
………………………………………………………
Теперь – пора! Заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.
Итак, Моцарт для Сальери – враг, злейший, чем «гость ненавистный», злейший из всех прежних, всех мыслимых! Он – ненавистней ненавистного, и «теперь – пора!» выпустить на свободу всю правду своего чувства, всю ненависть, претворив ее в действие, вероломно прикрытое «чашей дружбы»…
Но какая страшная жизнь отпахивается перед нами! Та самая, о которой говорил недавно Сальери: «Я счастлив был: я наслаждался мирно…» Эта жизнь пронизана ненавистью – неиссякавшей, потаенно копившейся годами… Сальери – ненавистник, и таким был он всегда. Его и при «счастье», до Моцарта, окружали, оказывается, не столько «товарищи… в искусстве дивном», сколько «враги беспечные», посещали «гости ненавистные», и он так же лицемерил с ними, так же, ненавидя их, с ними «пировал»… Так вот что значит, на языке Сальери, «наслаждаться мирно»! Это значит: ненавидеть тайно, «не преклоняясь» еще «на шепот искушенья» – соблазн «злодейства»… И вот каковы «осьмнадцать лет» вечно угрожаемого, часто омрачаемого каким-нибудь «врагом беспечным», домоцартова «счастья» Сальери! И явился наконец «злейший враг». Ожидание его было даже содержанием, стимулом жизни Сальери, жизни, которая и длилась-то как будто во имя ненависти, хотя «жажда смерти мучила» его.
Пушкин подчеркивает, что Сальери ненавидит великое. Великое искусство, прежде всего… Что именно великое злейше «обидно» и враждебно ему… Верней, в первую очередь, сам Сальери, конечно, ему враждебен!
«Быть может, новый Гайден сотворит Великое – и наслажуся им…» – ожидал Сальери, все медля на этом «несносном» свете… И сбылось – «и новый Гайден Меня восторгом дивно упоил!». Но тут-то и возникает осознание врага – ясное опознавание «нового Гайдена» как «злейшего» врага! Тут-то и разгорается ненависть! Из «восторга»… А быть может, этот «восторг» и есть ненависть? Во всяком случае он причудливо, «дивно» сопряжен с великим… Великое искусство служит на деле лишь толчксм к «восторгу», не обусловливая собою его – зловещей – сути.
Это менее всего «чистый восторг» перед искусством. Подобно тому, как «творческая ночь», посещавшая Сальери («творческая ночь и вдохновенье»), не есть чистая творческая нега, а только – дикий – суррогат ее, плод экзальтации самовозбужденного мозга… («Творческая ночь» – как емко, хоть бы и нечаянно емко, это пушкинское словосочетанье!) Музыка Моцарта не просветляет души Сальери. Она возбуждает в нем разве что эстетические мысли. А ее «глубина», «смелость», «стройность» побуждают «друга Сальери» к убийству. «Восторг», которым «дивно упоил» Сальери «новый Гайден», не служит творческому вдохновенью. Он – лишь могучее условие «звездного часа» делателя, залог вдохновения антисозидательного. Он и впрямь преддверье «творческой ночи»! Тьмы… «Теперь – пора!» – решает Сальери, именно прослушав Моцартову гениальную «безделицу». И «осьмнадцать лет» хранимый «дар Изоры» идет в ход непосредственно после музыки, вслед за нею, Моцартовой музыкой… «Дивное упоенье», влекущее опоить ядом!
Это, конечно же, «упоенье» не светом гармонии, а опасностью: близостью, живым дыханьем «злейшего» врага. Это некие «неизъяснимы наслажденья» – «бездны мрачной на краю». Как будто звучит перевернутая песнь Председателя из «Пира во время чумы», и надобно понять только, что «бездна мрачная», Чума («царица грозная») для Сальери – это Гармония, явившаяся живым, полным сил «новым Гайденом», сотрясая судьбу Сальери…
Ведь Гармония, «вольное искусство» ему, Сальери, приговор. При его себялюбии, его славолюбии и вошедшем уже в привычку ощущение себя на «степени высокой в искусстве безграничном»[1 - Вот, кстати, типичная фраза рационалиста, пытающегося расчленить безмерное на уровни высоты, подступаясь к бесконечности с линейкой или рулеткой.] этот приговор, на свой лад, не лучше чумы… В удел Сальери, как чует он не столько в силу понимания искусства Моцарта, сколько в силу остро развитого инстинкта опасности (как бывает это у самозванцев или узурпаторов «степеней высоких»), выпадает теперь именно «глухая слава». Он отныне невидим или почти невидим в длинном ряду своих столь же невидимых «товарищей» («…не я один с моей глухою славой…»), будничных «жрецов, служителей музыки», и разве что только Моцарт, в своей щедрости «счастливца», «бога», но, быть может, также и в своей чуткости, нечаянно-интуитивной попытке предотвратить убийство, обласкает Сальери, вспомнив о Бомарше:
…Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?
* * *
Простодушный Моцарт не неправ, говоря о Сальери: «Когда бы все так чувствовали силу Гармонии!..»
Только Сальери чувствует ужас перед «силой Гармонии», возникающей и живущей как-то вне разума, вне напряженной «усильности» труда, вне строгих условий для прихода вдохновения. Вне «молений» и напряженно «горящей», взыскующей отзыва, «любви»… Как все не постижимое разумом и уже потому Чужое, она вселяет в Сальери ужас за собственную его, совершенно иную, не вписывающуюся сюда судьбу, а поскольку он – делатель, верующий в насильственное становление явлений мира, Гармония вызывает у него восторг трудного, «героического», но возможного, при правильном методе, одоления ее.
«…Я избран, чтоб его Остановить», – говорит он о «новом Гайдене» – Моцарте, вестнике Гармонии.