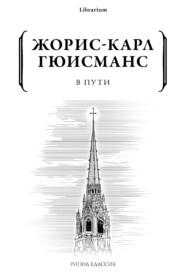
Полная версия:
В пути
Но сейчас же невольно он говорил себе: «Что тебе за дело до других? Если б ты был смиреннее, эти люди не казались бы тебе такими неприятными.
Во всяком случае, не забудь, у них есть мужество, которого не хватает тебе. Они не стыдятся своей веры, не боятся открыто преклонять колена пред своим Господом».
И Дюрталь, пристыженный, понимал, что возражение это верно. Он сознавал, что ему недостает смирения и, пожалуй, даже хуже того – что он все еще дорожит мнением людей.
«Я боюсь прослыть глупцом, меня страшит возможность быть замеченным в церкви на коленях. Неужели мне невозможно вообразить себя причащающимся, когда необходимо будет встать и идти к алтарю под взорами всего храма.
Нелегко будет вынести мне этот миг, если суждено ему когда либо настать, – думал он. – И, однако, как это глупо, и что мне за дело до мнения незнакомых людей!» Но сколько ни повторял себе Дюрталь, что тревоги его бессмысленны, он не мог отделаться от них, не мог отогнать страх показаться смешным.
«Наконец, если я даже сделаю окончательный шаг, решусь исповедаться и причаститься, то проблема плоти остается по-прежнему. Пришлось бы без колебаний сбросить с себя оковы тела, отказаться от блудниц, соблюдать вечный пост. А этого не достичь мне никогда! Не говоря уже о том, что никогда не терзали меня страсти так, как после моего обращения, я выбрал бы неподходящее время, если б попытался напрячь свои усилия и стать верным сыном церкви».
Его раздражало, что он словно топчется на месте, он пытался избавиться от мыслей навязчивых и докучливых. Но невольно надвигались они на него, и раздраженно напрягал он свой разум, призывал его на помощь.
Стараясь проверить себя, он рассуждал:
– Очевидно, приступы похоти усилились, сделались упорнее после моего приближения к церкви. Несомненно также другое: двадцать лет сладострастия настолько истощили меня, что я мог бы обойтись теперь без телесных вожделений. Если б только искренно захотеть, я был бы, в сущности, в состоянии не преступать целомудрия, но, конечно, для этого мне надо заставить смолкнуть мой бедный мозг, а на это я не способен! Но как ужасно сознавать, что более распаленные, чем в дни юности, блуждают мои страсти, и, наскучив домашним приютом, я ухожу на поиски порочного ночлега! Чем объяснить это? Или моя душа, не выносящая уже обыденного, требует едких мечтаний, острых мыслей? Неужели утрата вкуса к здоровым трапезам породила это алкание причудливых яств, это тревожное стремление вырваться из своего Я хотя бы на миг, переступить дозволенные грани чувств?
Так блуждал он, чутко вслушиваясь в себя, и кончил тем, что забрел в тупик, и пришел к такому выводу:
– Я не следую своей религии, потому, что потворствую моим половым инстинктам, а этим инстинктам потворствую, потому, что не следую религии.
Припертый к стене, он упорствовал, однако и спрашивал себя: Так ли справедливо это рассуждение? Где порука, что, приобщившись Святых Тайн, он не подвергнется еще более яростному натиску? Это казалось вероятным, так как демон с особым ожесточением нападает на людей благочестивых.
Потом он возмущался низостью своих возражений и восклицал: «Это ложь, разве я не знаю, что Всевышний мощно поддержит меня, если я выкажу действительную волю защищаться?»
Искусный в самобичевании, он продолжал попрежнему бесцельно копаться в своей душе. Допустим, – рассуждал он, – невозможное: я укротил свою гордость, смирил тело; допустим, что мне остается сейчас лишь двинуться вперед, но я опять остановлюсь, устрашенный еще одной, последнею преградой.
До сих пор я мог идти один, не прибегая к ничьей помощи на земле, не прося ни у кого совета. Никто не помог моему обращению, но теперь мне ни шагу нельзя ступить без наставника. Без поддержки священника мне отрезан доступ к алтарю».
И он снова отступал, вспоминая, как раньше ему случалось знавать нескольких духовных лиц, и все они производили на него впечатление людей пошлых, посредственных, а главное, столь чуждых возвышенного, что его возмущала мысль доверить им свои запросы и тревоги. «Они не поймут меня, – размышлял он, – ответят, что мистика была любопытна в Средние века, но теперь вышла из употребления и совсем не вяжется с духом современности. Сочтут меня за сумасшедшего, будут убеждать, что Господь не требует столь многого; улыбаясь, начнут уговаривать не обособляться, поступать, как другие, думать, как они.
Конечно, я не притязаю на предназначение непременно следовать путем мистическим, но пусть не мешают они мне, по крайней мере, жаждать его, не навязывают своего мещанского идеала Божества!
Не будем обольщаться, католицизм не исчерпывается той умеренной религией, которую нам преподносят, не слагается из одних формул и мелочных запретов. Не живет в узких рамках представлений старой девы, в благочестивой обыденности, которая пропитывает улицу Сен-Сюльпис. Он внемирен по-иному и по-иному чист. Но, чтобы обрести его, необходимо проникнуть сквозь пламенный круг, познать в нем начало мистическое, воплощающее искусство церкви, сущность ее, самую душу.
Пользуясь могучими средствами, которыми располагает церковь, человек должен тогда очистить себя, обнажить душу, чтобы мог снизойти в нее, если будет на то воля Его – Христос. Должен вымести сор из жилища, омыть его молитвами и святыми Таинствами. Должен приуготовиться, ожидая когда приидет Жених.
Я знаю, что исключительные милости Спаситель дарует только избранникам своим, но все же каждый из нас, даже самый недостойный, таит в себе возможность к достижению величественной цели, ибо решает здесь сам Господь, а от человека требуется лишь смиренное усердие.
Но немыслимо рассказывать это священникам. Они ответят мне, что не мое дело погружаться в мистические мысли и взамен предложат елейное ханжество, достойное богатой матроны, захотят вмешиваться в мою жизнь, давить мне душу, навязывать свои вкусы. Попытаются убедить меня, что искусство опасно, преподнесут свои тупоумные книги, вдосталь напоят меня водой своего набожного скудоумия!
И зная себя, я уверен, что первые же две беседы возмутят меня и превратят в безбожника».
Понурив голову, Дюрталь задумался, потом продолжал:
«Будем, однако, справедливы: светское духовенство не может быть иным; оно шелуха жатвы душ, цвет которой составляют созерцательные монашеские ордена и воинство миссионеров. Только мистики, священники, спаляемые скорбью, самозабвенно рвущиеся к жертве, укрываются в монастыри или уходят в изгнание к дикарям проповедовать Евангелие.
Да, но вопрос не в том, умны или ограничены священники. Не мое дело судить их, отыскивая человеческое ничтожество под священной оболочкой. Не пристало мне порицать их несовершенство, которое в общем делает их доступными пониманию толпы. И разве не доблестнее, не смиреннее, преклонить колена пред существом, скудоумие которого вам известно?
К тому же… разве это неизбежно?
Лично мне известен среди парижского духовенства один истинный мистик. Не повидаться ли с ним?»
Он призадумался о некоем аббате Жеврезе, с которым раньше поддерживал знакомство. Встречался с ним иногда у книготорговца Токана на улице Сервандони, владевшего редкостнейшими книгами о литургии и житиями святых.
Узнав, что Дюрталь ищет сочинений о Блаженной Людвине, священник сейчас же обратил на него внимание, и они долго беседовали по выходе. Аббат был человек престарелый, ходил с трудом и охотно оперся на руку Дюрталя, который проводил его до дому.
– Какой богатый сюжет – житие этой жертвы грехов своего времени, – говорил он: – Вы помните?
И в общих чертах он широкими мазками воссоздал ее образ.
– Людвина родилась в Голландии, в городке Схидам, на исходе XIV века. Красота ее была необычайна, но на пятнадцатом году от рождения она занемогла и стала безобразной. Повзрослев, она оправилась, но однажды, катаясь на коньках с подругами на льду каналов, упала и сломала себе ребро. С этого времени она до самой смерти была прикована к одру. На нее обрушиваются самые страшные недуги, воспаления, поражающие ее раны, черви, зарождающиеся в ее гниющем теле. Ее терзает грозная болезнь Средневековья – священный огонь. Разъедена ее правая рука, и уцелела всего одна лишь жила, которая не позволяла руке отпасть от тела. Сверху донизу расщелился ее лоб, один глаз закрылся, а другой так ослабел, что совсем не выносил света.
Чума между тем свирепствует в Голландии, опустошает город, в котором жила Людвина. Она одна из первых жертв. Появляются две язвы. Одна под мышкой, другая в области сердца. Две язвы хороши, взывает она ко Господу, но еще милее были бы мне три, во славу Пресвятой Троицы, и сейчас же третья язва разъедает ей лицо.
Тридцать пять лет прожила она в подвале, вкушая скудную пищу, в молитве и слезах; зимой так коченела, что слезы застывали у нее вдоль щек двумя ручьями.
Но, почитая себя все еще слишком счастливою, она молила Господа не щадить ее и жаждала, чтобы даровано ей было своими муками искупить грехи других. И Христос внимал блаженной, снисходил к ней со своими ангелами, причащал собственноручно, пленял небесными восторгами, и благоухания источались из ее ран.
А когда настал смертный ее час, Господь поддержал святую и вернул совершенство ее измученному телу. Воссияла красота, давно исчезнувшая. И заволновался город, толпой стекались недужные, и исцелялся всякий, кто приближался к ней. Она истинная покровительница больных, – заключил аббат и, помолчав, продолжал: – Жизнь Людвины необычайно поучительна с точки зрения высокой мистики: по ней можно проверить закон жертвенности, который оправдывает бытие монастырей…
Встретив вопросительный взгляд Дюрталя, аббат продолжал:
– Вы знаете, что монахини издревле обрекали себя Небу жертвой искупления. Многочисленны жития святых, которые жадно стремились к жертве и смывали людские прегрешения муками, пламенно вымоленными, и стойко переносимыми. Эти дивные души домогаются подвига еще более тяжкого и горестного. Не довольствуясь очищением грехов ближнего, они заменяют собою людей, которые по слабости не способны противостоять искушению.
Прочтите про святую Терезу. И вы увидите, что она молила возложить на нее бремя искушений, предназначенных некоему священнику, который не мог бы претерпеть их, не соблазнившись. Такая замена, когда душа могучая освобождает немощную от непосильных ей страхов и опасностей, принадлежит к числу великих правил мистики.
Иногда помощь эта бывает чисто духовной, иногда, наоборот, направляется исключительно на болезни тела. Святая Тереза сменяла застигнутые бедой души, сестра Катерина Эммерик подкрепляла слабых телом, принимала на себя болезни наиболее тягостные. Она могла вынести, например, муки двух женщин, чахоточной и пораженной водянкою, и тем позволила им в мире приуготовиться к смерти.
Так вот! Людвина собрала все болезни тела. Ее спаляла жажда физических страданий, ненасытное алкание ран. Она как бы срезала жатву мук, являя собою тот сосуд милосердия, куда каждый изливал чрезмерность своего горя. Если вы хотите рассказать о ней по-иному, чем скромные священнописцы, современники, то изучите сперва закон замены, – это чудо недосягаемого милосердия, сверхчеловеческую победу мистики. Он будет стеблем вашей книги, на котором расцветут все деяния Людвины.
– Творится ли закон этот в наше время? – спросил Дюрталь.
– Да, я знаю монастыри, которые осуществляют его. Некоторые ордена – кармелитки, сестры святой Клары – ревностно стремятся к приятию чужого горя. Монастыри эти погашают, так сказать, диавольские обязательства, предъявленные к платежу душам несостоятельным, долги которых они уплачивают начисто!
– Какова же должна быть уверенность в своей непоколебимости, когда человек соглашается навлечь на себя натиск, предопределенный ближнему? – заметил, наклонив голову, Дюрталь.
– Редки, в общем, монахини, избираемые Господом нашим искупительною жертвой, обрекаемые на заклание, – отвечал аббат. – Они обычно вынуждены объединяться, вступать в союзы, чтобы, не колеблясь, нести бремя искупаемого ими греха. В одиночестве душа способна устоять против нападок сатаны, иногда яростных, если ее укрепляют ангелы и избрал Господь…
И после некоторого молчания старый священник прибавил:
– Я полагаю, что право говорить об этих вопросах с уверенностью требует некоторого опыта. Скажу вам, что я один из руководителей монахинь искупительниц, обитающих в монастырях.
– И подумать только, что мир часто спрашивает, к чему нужны созерцательные ордена! – воскликнул Дюрталь.
Аббат отвечал с необычайным воодушевлением:
– Эти громоотводы общества, притягивающие к себе демонический эфир; на них изливается соблазн пороков, они охраняют своей молитвой тех, которые живут во грехе, подобно нам. Они умиротворяют гнев Всевышнего, спасают землю от проклятия. Конечно, достойны почитания сестры, которые посвящают себя уходу за больными и немощными, но как легка их задача по сравнению с той, которую подъемлют монастырские ордена, где непрерывно льется покаяние и где рыдают даже по ночам, лежа в постели!
«Однако, священник этот интереснее своих собратьев», – думал Дюрталь, когда они расстались. И так как аббат пригласил его к себе, то Дюрталь заходил к нему после того несколько раз.
Всегда он находил у него сердечный прием. При удобном случае искусно расспрашивал он старца о некоторых вопросах. Тот отвечал уклончиво, когда речь заходила о его собратьях. Но ценил их не слишком, если судить по высказанному им раз мнению по поводу слов Дюрталя, вновь заговорившего о Людвине, этом истинном магните скорби:
– Мне кажется, что чистой и слабой душе лучше выбрать себе исповедника не среди духовенства, утратившего понимание мистики, но из монахов. Лишь им одним ведомо приложение закона замены. Когда они видят, как кающийся погибает, не взирая на свои усилия, они освобождают его, принимая на себя преследующие его искушения или же перенося их куда-нибудь в иной, глухой монастырь, где им предают себя люди самоотверженные.
Другой раз в газете, которую показал ему Дюрталь, обсуждался национальный вопрос. Аббат пожал плечами и отверг болтовню шовинизма: «Мое отечество, – спокойно высказал он, – если о нем могут искренно молиться».
Кто этот священник?.. Он хорошо не знал этого. Книготорговец сообщил ему, что, ввиду своего преклонного возраста и немощей, аббату Жеврезе не по силам постоянная священническая должность. Иногда, когда может, он совершает еще утреннюю литургию в одном из монастырей. Вероятно, исповедует у себя на дому некоторых своих собратьев. И Токан презрительно добавил: «Средства к жизни у него скудные, и за его мистицизм консистория посматривает на него не слишком благосклонно».
На этом обрывались его сведения.
– Не сомневаюсь, что это священник отменный, – повторял Дюрталь. – Это видно по его лицу. Противоречие рта и глаз верное указание его высокой добродетели. Фиолетовые губы, всегда влажные, смеются выразительной, почти скорбною улыбкой, которую отрицают голубые детские глаза, ласково удивленные, под густыми белыми бровями в рамке слегка красноватого лица, подобно спелому абрикосу на щеках усеянного кровяными крапинками.
Во всяком случае, – решил Дюрталь, отрываясь от своих размышлений, – я глубоко не прав, прекратив наше начавшееся знакомство. Да, но, с другой стороны, ничего нет труднее, как войти в истинный, неподдельный духовный мир священника. Духовные уже самым семинарским воспитанием своим приучаются носить личину, избегать исключительных привязанностей. Затем, как и врачи, это люди, заваленные делом, которые никогда не принадлежат себе. С ними встречаешься наспех, между двумя исповедями, двумя посещениями. Притом, никогда нельзя верить в искренность приема, который окажет вам священник. Они относятся одинаково ко всякому, кто ищет с ним сближения. Наконец, не посещал аббата Жеврезе, не домогался его забот или помощи, боясь обременить его, отнять у него время, и потому совестливо избегал свиданий.
Теперь я сожалею. Не написать ли, или просто зайти к нему как-нибудь утром? Но что я скажу ему? Прежде, чем решиться тревожить его, необходимо выяснить, чего же я, собственно, хочу? Прийти и, как всегда, плакаться? Но он ответит, что напрасно я не бываю у причастия, и мне останется лишь замолчать. Нет, всего лучше встретиться с ним будто случайно, как-нибудь на набережной, где он иногда прогуливается, или у Токана. Это дало бы мне возможность побеседовать с ним менее официально, более задушевно о моих тревогах и волнениях.
И Дюрталь стал бродить по набережной, но ни разу не встречал аббата.
Под предлогом просмотра книг, он заглянул к книготорговцу, но едва лишь заикнулся о Жеврезе, как Токан воскликнул:
– Не знаю, что с ним. Он у меня не был уже целых два месяца!
«Довольно колебаний, надо решиться и навестить аббата, – размышлял Дюрталь. – Но он будет недоумевать, зачем я пришел после такого долгого отсутствия. Помимо смущения, которое я всегда чувствую, возвращаясь к людям, с которыми разошелся, какая досада думать, что аббат, увидев меня, сейчас же заподозрит, что пришел я не без цели. Это неудобно. Будь у меня хороший предлог. Не использовать ли житие Аюдвины, которое его занимает? Я мог бы обратиться к нему за рядом указаний. Да, но каких? Уже давно забыл я эту святую, и мне пришлось бы перечесть скудоумные произведения ее жизнеописателей. В сущности, проще всего, достойнее всего действовать откровенно и сказать ему: хотите знать причину моего прихода? Я прошу ваших советов, не имея настолько силы, чтобы им последовать, но мне так необходима беседа, я чувствую такую потребность излить душу, что молю вас сотворить милость и потерять из-за меня целый час.
Конечно, он от всего сердца исполнит мою просьбу.
Значит, решено? Иду завтра?.. Но он сейчас же заколебался. Не к спеху! Всегда успеется. Лучше еще лишний раз обдумать. Ах, но как же я забыл, что скоро Рождество! Непристойно докучать теперь аббату. Многие причащаются в день Рождества Христова, и он, конечно, теперь исповедует своих духовных чад. Обождем, пока отпразднуют Рождество, потом увидим».
Сперва он был в восхищении, что измыслил эту отговорку, потом сознался в душе, что она не очень добросовестна. Не скрывал от себя совершенной бездоказательности своего предположения, так как этот священник, не состоявший при каком-либо приходе, вряд ли был очень занят исповедью верующих.
Он пытался убедить себя в этой возможности, и снова пробудились в нем сомнения. Сокрушенный, наконец, своей душевной распрей, он принял среднее решение. Ради большей достоверности, он отправится к аббату лишь после Рождества, но с условием, чтобы не пропустить самим заранее назначенного себе срока. И, достав календарь, он поклялся сдержать обет идти к аббату через три дня после праздника.
IV
Ах, эта полунощная служба! Ему пришла несчастная мысль прослушать ее под Рождество. Придя в Сен-Северин, он, вместо хора, застал там пансион для приходящих девиц, тоненькими голосками прявших тяжелое руно песнопений. Спасшись бегством в Сен-Сюльпис, он встретил там толпу, которая разгуливала и болтала, точно на ярмарке, и ушел, наслушавшись пошлых маршей, вальсов, бенгальских песнопений.
Церковь Сен-Жермен-де-Пре внушала ему ужас, и он не пытался укрыться теперь в этом храме. Помимо тоски, которую наводили своды ее, тяжелые, плохо реставрированные, и угрюмая живопись, тяжкое наследие Фландрена, духовенство церкви отличалось каким-то особым, отталкивающим неблагообразием, а капелла была просто позорной. Сброд необработанных голосов детей, нестройно визжавших, и пожилых певчих, изготовлявших в своем горле нечто вроде старческой похлебки звуков.
Он даже не подумал о Сен-Тома-де-Аквин, страшась бездарных завываний. Оставалась Сен-Клотильд. Ее хор не такой позорный, его можно по крайней мере, слушать. Но и там он бы натолкнулся на пляску мирских мелодий, на светский шабаш.
Кончилось тем, что, раздраженный, лег он спать с мыслью: нечего сказать, хорошую приготовил Париж музыку для восхваления Божественного Младенца!
Утром, пробудившись, он почувствовал, что у него иссякло мужество бродить по церквам. День стоял довольно ясный; он вышел из дому, блуждал по Люксембургу, миновал перекресток Обсерватории, бульвар Королевского моста и незаметно побрел по бесконечной улице.
Он знал эту улицу уже давно. Часто совершал по ней грустные прогулки, прельщаемый ее пустынным обликом, дышавшим провинциальной глушью. Окаймленная по правой стороне стенами тюрьмы и убежища душевнобольных во имя святой Анны, и монастырями по левой, она располагала к мечтаньям! Поток дневного света лился по руслу улицы, по сторонам которой царила, казалось, темнота. Она походила до известной степени на тюремную аллею, обрамленную кельями, в которых одни претерпевают насильственные временные кары, а другие подвергают себя по доброй воле вечным мукам.
«Она так подходит для картины какого-нибудь из ранних фландрских мастеров», – думал Дюрталь. Вдоль мостовой тянутся этажи домов, раскрытых сверху донизу, точно шкапы. С одной стороны прочные темницы с железными постелями, каменными сосудами, маленькими потайными оконцами в дверях, с тяжелыми засовами. Внутри закоренелые злодеи скрежещут зубами, топчутся на месте, жестковолосые, воющие, словно звери в клетках. Напротив них кельи, со скудным ложем, глиняным кувшином, распятием, также запертые железом коваными дверями. А на плитах пола стоят коленопреклоненные монахи или монахини с пламенными ореолами, обрамляющими их лица, и, воздев глаза к небу, молитвенно сложив руки, в экстазе стремятся душой ввысь, рядом с расцветающей в вазе лилией.
Наконец, в глубине, между двумя вереницами домов идет вверх широкая аллея, в конце которой в небе, украшенном мелкими завитками облаков, Бог Отец восседает с Христом одесную, а хоры серафимов играют вокруг Них на лютнях и скрипках. И неподвижный Бог Отец, увенчанный высокой тиарой, с длинной бородой, покрывающей Его грудь, держит весы, чаши которых приходят в равновесие по мере того, как святые узники молитвами и покаянием своим искупают хулы злодеев и безумцев.
«Бесспорно, что эта улица, – раздумывал Дюрталь, – совершенно особенная, вероятно, даже единственная в Париже. В своем течении она объединяет добродетели и пороки, которые в других округах разветвляются обычно, несмотря на усилия церкви, как можно дальше друг от друга».
В раздумье дошел он до святой Анны; улица сделалась еще мрачнее; дома стали ниже, одноэтажные или двухэтажные; они постепенно редели, связанные промежутками оград, штукатурка которых облупилась.
«Пусть так, – размышлял Дюрталь, – если этому концу улицы чуждо обаяние, зато в нем есть неподдельная интимность. Здесь не надо, по крайней мере, любоваться смешным убранством современных агентств, выставляющих в своих витринах отборные поленья дров и выкладывающих в хрустальные вазы куски антрацита и кокса. А вот уличка действительно забавная!..» Он заметил переулок, круто спускающийся к большой улице, на которой виднелась жестяная трехцветная вывеска прачечной. Прочел название: «Улица Эбр».
Вернувшись, он убедился, что длина переулка всего несколько метров. Справа на всем протяжении тянулась стена, из-за которой выглядывало ветхое покосившееся здание с колоколом. Ворота с четырехугольной калиткой пересекали стену, прорезанную несколькими круглыми окнами, а рядом была небольшая постройка, над которой выделялась колокольня, такая низкая, что вершина ее не достигала даже высоты двухэтажного дома напротив.
На другой стороне лепились друг к другу три домика. Цинковые трубы ползли по стенам, наподобие виноградных лоз, и разветвляясь, точно стебли. Окна зияли под заржавленными свинцовыми наличниками. Угрюмые разваливающиеся лачуги чернели на пустопорожних дворах. На одном стоял навес, где дремали коровы, на двух других виднелись сарай с ручными тележками и плетюшка, из-за стенок которой торчали запечатанные горлышки бутылок.
«Да это церковь!» – догадался Дюрталь, рассматривая маленькую колокольню и три, четыре круглых оконных просвета, вырезанных как бы в картоне, на который походил черный и красноватый известняк стены. Но где же вход?
На повороте переулка он заметил крошечную паперть, которая вела в строение.
Толкнув дверь, он проник в обширное помещение, нечто вроде окрашенного в желтое сарая с низким потолком на поперечных железных брусьях, покрытых серой краской, перевитых голубыми полосами и украшенных газовыми рожками, какие бывают в винных погребах. В глубине мраморный алтарь с шестью зажженными свечами, убранный бумажными цветами и золочеными розетками и с маленькой дароносицей на жертвеннике, сверкавшей отблесками пламени свечей.
Грубо расписанные синими и желтыми красками оконные стекла едва пропускали скудный свет. Печка не топилась, и было холодно, а каменные плиты церковного пола не покрыты были ни ковром, ни половиком.
Дюрталь закутался и сел. Понемногу глаз его привык ко мраку церкви, пред ним вырисовывалась странная картина. На рядах стульев против хор застыли неподвижные фигуры, утопавшие в волнах белой кисеи.

