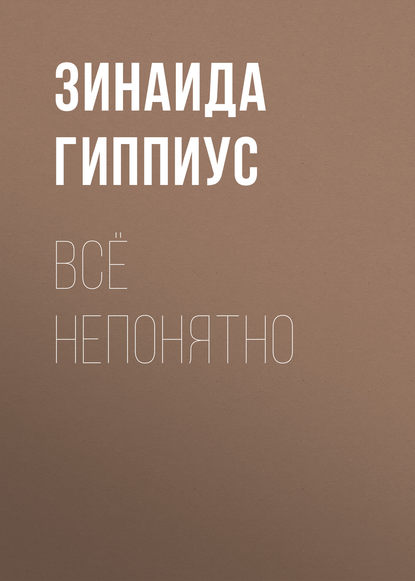 Полная версия
Полная версияВсё непонятно
Прожить в буквальном смысле один – этот старый ребенок не сумел бы, конечно, и дня. За ним самоотверженно ухаживает какая-то бывшая не то гувернантка, не то бонна семьи – «фрейлейн». Это благодаря ей так, до сих пор, еще все «по-прежнему». Это она покрыла, в солнечной столовой, белой скатертью стол и приготовила «угощение».
Мы говорим… просто болтаем. Удивительно: и мне начинает казаться, что ничего не случилось, что все – прежнее. Вижу белые волосы Андреевского – и не вижу: слышу его детский смех и, минутами, почти искренно, чувствую и свое ребячество. Загадка жизни и смерти? да, мы о ней не забываем; но ведь мы и тогда, – в словах ли, в молчании ли, – о ней помнили…
Самое яркое, что осталось у меня от этого дня: солнечный луч в желтом золоте вина. Друг мой налил его (фрейлейн сберегла!) в две широкие рюмки, мне и себе:
– Знаете, какой сегодня праздник? Сегодня Духов день! Давайте сегодня выпьем, наконец, на «ты». Уж давно пора!
И мы пьем, и целуемся, – да, пора и на «ты» перейти. Какое светлое в солнце вино. И как оно мне запомнилось!
Убеждаю выйти на балкон, в гостиной открывается. «Сержинька» надевает пальто, шапку – а почти жара! и мы выходим. Он даже приносит стулья. Но мне пора домой.
– Я увижу отсюда, как ты пойдешь. Смотри, обернись! А какая пустыня…
Внизу, действительно, пустыня (конечно, это был 18-й год!). Ничего праздничного. Праздник только вверху, в небе, – в солнце, в весне.
– Не забудь же Духова дня! Не забудь обернуться!
Медленно иду по улице, останавливаюсь, оборачиваюсь, и все вижу, высоко, маленький черный комочек за перилами балкона.
Ну как же забыть Духов день? Это было наше последнее свиданье.
9
Месяцы перед кончиной были очень тяжелы. Чтобы корчься, прежняя бонна распродавала, понемногу, все. С великими усилиями и хлопотами сохраняли квартиру Андреевского, чтобы не трогать его с места. Он всему не то покорялся, не то мало замечал происходившее вокруг. Мне кажется, его рассеянность возросла необыкновенно; все дальше свертывался внутрь, внешне же это делало его одиноко скучающим ребенком. От детской скуки, верно, и стал ходить, с фрейлейн, в кинематограф. Более неподходящих для этого времен и вообразить нельзя: постоянные облавы. В одну из таких облав попал Андреевский. Морозной ночью, на грузовике, повезли куда-то, где, на полу, он провел ночь.
Воспаление легких, с немедленным беспамятством. Страдал он ужасно. Младшая дочь (она неожиданно оказалась в Петербурге и присутствовала при его последних днях) рассказывала мне потом: «Я стояла на коленях у его изголовья и молилась только об одном: чтобы он скорее умер».
Если б сам он, в своей Книге, писал «о смерти С. А. Андреевского» (как шутил иногда), он, верно, кончил бы тем же безответным вопросом: «За что?». Хочется повторить его и мне… Но лучше вспомнить из Книги несколько слов – не рассуждающих, неожиданных, вырвавшихся как вздох: «Но после долгих терзаний, в конце концов, я чувствую, что, со смертью, мы отходим к Богу, под его крыло. Из-под этого крыла мы вышли на свет – и под него укроемся… Да будет!».



