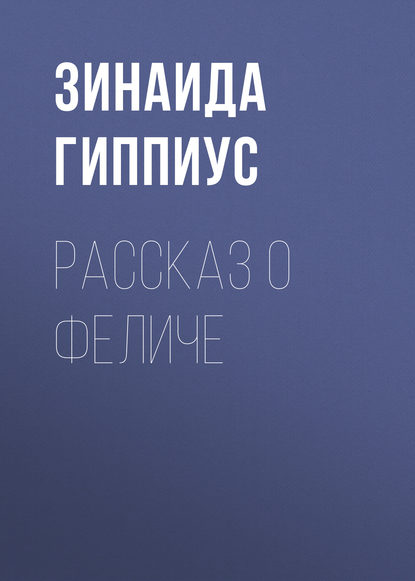 Полная версия
Полная версияРассказ о Феличе
Признаюсь, у меня не было даже колебаний. Раз признав, что я люблю, оскорблять свою любовь я не мог и мысленно. Она была для меня дороже всего.
Я сунул письмо в карман и поехал в Лужки.
Дождь не шел, но тонкая изморозь туманила горизонт. Мокрые, голые ветки деревьев качались с тем мертвым постукиванием, которое всегда мне напоминает стук костей скелета. Было тоскливо, холодно и тяжко.
Я думал о письме и о Варе. И вдруг злая мысль озарила меня. Вот случай, когда я могу до дна узнать, любит ли меня Варя, понимает ли мою любовь. Если она даже не может любит меня так, но понимает меня и дорожит мною, – она удержит меня.
Я почти вбежал на крыльцо. Варя встретила меня в передней.
– Что с тобой, Ваня?
Она уже начинала говорить мне «ты» иногда и звала Ваней, к чему, впрочем, я не мог привыкнуть: очень мне не нравилось.
– Два слова… Зайдем к тебе.
В ее комнате я, без околичностей, показал ей письмо, объяснил его и сказал тихо:
– Ну, что же? Как ты думаешь?
Сердце у меня билось тяжело, часто, в ушах шумело. Я чуть не крикнул ей: скорее, скорее! Скажи, что ты любишь нашу любовь, что ты не дашь оскорбить ее разлукой из-за денег, что ты не расстанешься со мной ни на минуту…
Глаза Вари наполнились слезами. Она взглянула на меня кротко.
– На два месяца… – прошептала она.
Я сделал невероятное усилие над собою и проговорил:
– Но я буду писать тебе каждый день… И, может быть, дела кончатся раньше. Подумай, как мы будем потом счастливы…
– Да, Ваня. Но все-таки тяжело.
– Тяжело, конечно. Так ты отпускаешь меня?
– Ваня, это для твоего блага… Я была бы гадкой эгоисткой… А для твоего блага…
Для моего блага! Она не знала, что она делает с моим сердцем.
Мы не говорили больше. О чем? Да я и чувствовал, что не могу дольше притворяться. Я не уехал сейчас же. Варя приписала мою мрачность нашей скорой разлуке и была со мною особенно нежна. Она тоже горевала, но тихо, кротко, покорно, – и радовалась, что «мы будем счастливы» – потом… Все поздравляли меня с получением денег… А мне казалось, что на дворе еще темнее, изморознее и ужаснее, что стены ползут бесшумно вниз около меня, что пол уходит в пропасть подо мною… Все кончено… Любви нет, потому что не это любовь.
Я не видел Вари. Я написал ей письмо, где в последний раз пытался объяснить ей, что она заботилась о моем благе, не зная, где оно находится, что она убила нашу любовь.
Я писал всю ночь, – а через день уже был в Петербурге.
VI
Два последующих года проползли медленно, хотя вся жизнь моя переменилась.
Я пробыл в Петербурге, сколько того требовали дела, – месяца четыре, получил деньги, которых оказалось больше, чем я мог предполагать, и тотчас же пустился странствовать. Полтора года я прожил в Италии. Я много занимался, не так, как прежде, а серьезно и систематически, слушал некоторое время лекции в болонском университете – не для лекций, а больше, чтобы сойтись ближе с итальянскими студентами, которые меня интересовали. Во Флоренции я сошелся с одним дряхлым старичком профессором; он меня очень полюбил.
Эти два года так изменили меня, показали в таком новом и простом свете и жизнь, и красоту, и искусство, что я не любил вспоминать себя прежнего, деревенского, глупого и смешного ребенка. И прошлое Италии, которое я любил, не зная, – я узнал, понял и полюбил еще больше.
О Варе я старался не думать и не вспоминать. Всякой любви я избегал. Это было больное место, которое я решил не трогать.
Весной третьего года (я жил тогда во Флоренции) со мной случилось что-то нехорошее. Я заболел. У меня, собственно, ничего не болело, но необъяснимая тоска, тяжелая и тупая, грызла мою усталую душу. Что бы я ни делал, о чем бы я ни думал, она была тут, мешала дышать и говорить. Я не знал, куда себя давать. Каждый день, ранним утром, я ходил наверх, к монастырю Сан-Миньято. Оттуда была видна Флоренция, покрытая сизой утренней дымкой, вся серая, маленькая и гордая; Арно, извиваясь в долине, блестел, как расплавленное олово; вся холмистая, нежная Тоскана улыбалась мне, а я плакал, глядя на нее, и не знаю, чего хотело мое сердце. Один раз, помню, мне вдруг вспомнилось ровное, зеленое море высоких трав, запах мяты и повилики, пара белых бабочек над стеблями кашки и одуванчиков… Мне стало страшно. Откуда такие воспоминания здесь, в этой прекрасной и смелой Флоренции, в городе дворцов и роз?
Но дольше я не мог выдержать. Бежать, – не все ли равно куда? И я поехал в маленький городок Цезаро, довольно далеко от Флоренции, на берегу Адриатического моря.
Я не искал ничего, кроме одиночества и морских волн. Знал, что не найду там никаких особенных красот природы, – мне нужна была перемена и отдых.
Я приехал в жаркий день; городок мне показался некрасивым, не очень уютным, слишком ярким. Солнце ослепительно ударяло в светлые стены домов. Синела на краю узкой улицы, вдали, темная, как синька, полоса моря. Я не пошел к морю, боясь жары. В темной, не очень чистой, гостинице, но величественной, как дворец, – потому что это действительно был старинный дворец-«шалаццо» какого-то кардинала, – мне отвели громадную сводчатую комнату, которая мне сразу понравилась.
Я спросил, нет ли тут музея, картинной галереи. Мне указали путь. Я люблю музеи самые простые, без посетителей, темные и прохладные, где бродишь тихо, не торопясь к шедевру, где открываешь иногда на скоробившемся холсте неугаданные лица божественной красоты.
Но цезарский музей оказался неинтересным, если не считать отделения майолик, которые превосходны, но которые меня на этот раз не тронули.
Сторож, видя мое равнодушие, предложил мне идти вниз, где есть скульптурное отделение и «классы».
Скульптурное отделение оказалось собранием слепков. В боковых комнатах помещались классы, – ученики рисовали и лепили. Я прошел во вторую комнату. На стене меня заинтересовал какой-то орнамент, – и я остановился. Здесь работали ученицы, на которых я не обратил особенного внимания. Было тихо, иногда только слышались отрывочные фразы на грубовато-звучном и переливчатом итальянском языке, к которому я давно привык.
Вдруг я почувствовал себя неловко, как человек под слишком пристальным взором. Я обернулся. На меня в упор смотрели два больших светло-серых глаза, светлых, но не прозрачных, как чистый ручей с темным днем. Я удивился. На меня никто так не смотрел. Да и в наружности моей не было ничего замечательного, даже свои длинные волосы я давно остриг. Я хотел уйти, но, вглядевшись пристальнее в девушку за пюнитром, я остановился. Она мне показалась такой странной и такой интересной, что я сам не отрывал от нее глаз, не думая о неловкости этого переглядывания.
Она была вся очень мала, но не худа. Лицо казалось особенно маленьким от необыкновенной пышности волос, которые лежали толстыми, желтыми прядями, упруго и крупно волнистыми. Они, вероятно, не были длинны, а только непомерно густы и кудрявы. Узел на затылке казался маленьким сравнительно с локонами, свитыми в жгуты около ушей и лба. Цвет их был именно желтый, тусклый, без золотого оттенка, тяжелый и однообразный. Низкий лоб, сдвинутые прямые брови придавали ее красивому лицу выражение злобной решимости. И на черном дне светлых глаз мне почудилось что-то нехорошее, какое-то безумие.
Ученицы встали и начали собирать рисунки, уходя домой. Белокурая девушка тоже встала, не сводя с меня глаз. Я сделал усилие – отвернулся опять к стене. Ученицы вышли в сени, болтая и прикидывая шляпки.
– Felice, – услыхал я голос одной, которая звала запоздавшую подругу. – Vieni! Феличе, иди же.
– Subito! – отвечал ей спокойный и глуховатый голос около меня.
Я опять обернулся. Моя девушка, которую звали Феличе, собирала рисунки не торопясь. Синее платье с кожаным кушаком сидело на ней ловко. На вид ей казалось лет шестнадцать.
Прошло несколько мгновений. Слышно было, как толпа учениц выбежала из сеней. Мы были одни.
– Синьор, – произнесла вдруг Феличе, приблизившись ко мне, – вы иностранец?
Не знаю, нравилась ли она мне, но я ее боялся.
– Я только что сегодня приехал, – проговорил я, снимая шляпу. – Цезаро такой прелестный город.
Мне показалось, что она усмехнулась презрительно.
– Его надо знать, этот город… У нас бывает мало иностранцев. Я думаю, мой отец может быть вам полезным. Он – директор гимназии и музея. Проводите меня домой, я вас с ним познакомлю.
Через минуту мы уже шли рядом по жарким и светлым улицам Цезаро. Феличе говорила со мной о пустяках, но смотрела порою так, что у меня холодели руки. Она меня точно привязывала к себе взорами.
Я познакомился с отцом. Он мне показался дряхлым и глуповатым итальянцем. Матери не было вовсе. Компанию Феличе составляла худая и старая экономка Маргарита с хитрым лицом. Дом был новый, белый, похожий на все итальянские дома, с балконами.
Случилось как-то, что я провел несколько часов у моих новых знакомых. Пришел высокий черномазый итальянец, одетый прилично, в рубашке с отложным воротником, но, как все итальянцы, с бесвкусным и пестрым галстуком. Он сверкнул на меня недружелюбными черными, как сажа, глазами. Феличе мне его отрекомендовала просто: «А это – Гвидо».
Гвидо все время молчал и скоро ушел, чему я был рад, ибо он продолжал как-то странно взглядывать на меня. В тот же день я узнал, что Гвидо считается женихом Феличе.
Видя мое удивление, Феличе прибавила:
– Мне семнадцать лет, Гвидо получил место и просил назначить день свадьбы. Он хочет – теперь, а я хочу после купаний.
Купанья в Цезаро начинались в июле. Приезжало много народу из Флоренции и Рима; городок оживал и веселел.
– Гвидо не будет ждать, – промычал старик отец, который успел закурить прескверную сигару, и неприятный дым ее душил меня.
Феличе изменилась в лице, но не покраснела, а побледнела. Брови ее сжались.
– А если я не хочу раньше? – произнесла она, с таким-то вызовом, обращаясь к отцу.
– Гвидо не будет ждать, – повторил старик. – И я не буду ждать, – прибавил он, и вдруг выпрямился и посмотрел на дочь так, что я удивился, а она, хотя стиснула губы, ничего не посмела ему возразить.
Мне стало неловко. Старый итальянец показался мне не таким уж дряхлым и беспомощным.
Он не удерживал меня, когда я начал прощаться. Вообще, мой визит не удался: я видел, что вернуться мне сюда не придется. И я задумчиво спускался по каменной лестнице, когда сзади послышались легкие шаги и Феличе догнала меня.
Она схватила мои руки и глядела на меня умоляющими глазами. Что-то невинное, бессознательное, но сильное было в этих светлых глазах, и горячая волна прихлынула к моему сердцу.
– Синьор, синьор, – лепетала она, – ради Бога… Вы уходите… Ради Бога… Не думайте обо мне дурно, но я не могу… Придете вечером в сад на берегу моря… Где здание купален… Оно теперь заколочено. Придете. Мне нужно вам сказать…
Ее волнение передалось мне. Я шепнул ей на ухо, так, что губы мои коснулиь ее пушистых волос:
– Приду, приду…
Она вдруг выпрямилась и прибавила почти громко, с прежней злобой сверкнув глазами:
– А Гвидо… Не будет этого. Я его ненавижу теперь, Гвидо.
Что мне было до Гвидо? А между тем безумная радость захватила мне дыхание в эту минуту. Я дошел до своей гостиницы как в полусне, лег на постель и продолжал… не думал, потому что я ни о чем не думал, а дремать, сладко и неспокойно.
Вошла служанка, некрасивая и болтливая баба, предложила мне обедать. От обеда я отказался, но, подумав, спросил ее, знает ли она директора гимназии.
– Синьора Учелли? Кто же его не знает! Он постарел за последние годы, но все-таки чрезвычайно достойный господин. И упорный, настойчивый, – истый итальянец. Стоит ему захотеть, – о, уж он поставит на своем. Синьорина – красавица. И воспитана строго. Теперь она выходит замуж за синьора Гвидо – родственника синьора Учелли, который его очень уважает. Немножко крут и горяч синьор Гвидо, но таким и следует быть: это значит только, что в жилах его течет благородная кровь…
Я еле остановил расходившуюся старуху и выслал ее из комнаты.
Потемнело быстро и внезапно, почти без сумерек. Я схватил шляпу и выбежал на улицу.
На главной площади шелестел фонтан. Люди ходили ленивыми толпами и громко переговаривались. Освещенный круг часов на муниципалитете показывал восемь. Я прошел несколько улиц почти наугад и вышел, наконец, к морю. Темное, пустынное море роптало печально, почти заунывно. Чуть белел песчаный, плоский, скучный берег. Ряд вилл с забитыми окнами казался бесконечным. Влево я увидел черную купу деревьев за длинным и низким строением, тоже необитаемым.
– Туда! – сказал я почти громко и быстрыми шагами направился к деревьям.
Там было очень темно, не виднелись даже огни города, – я подвигался, не видя дороги. Но не успел я и подумать, что благоразумнее вернуться, как чьи-то руки схватили меня за одежду, и я услышал торопливый шепот:
– Синьор Джиованни… Синьор Джиованни…
Это была Фелича. Глаза мои привыкли к темноте, и я различал теперь маленькую, стройную фигурку, закутанную в черное. Непокрытые волосы и лицо слабо светлели.
– Пойдемте сюда, тут есть скамейка, – продолжала Феличе тем же шепотом.
Мы сделали несколько шагов и, действительно, нашли скамейку. Я держал руки Феличе и молчал. Необъяснимое, жгучее волнение охватило меня.
– Синьор, – продолжала между тем Феличе, – не думайте обо мне дурно, заклинаю вас. Это сильнее меня, я не могла… Скажите хоть слово, одно слово…
– Я тебя люблю, Феличе… Я тебя люблю…
Я и теперь не понимаю, как я произнес эти слова, – точно кто-то другой произнес их. Это было сильнее меня.
Она вскрикнула легко, слабо, и прижалась ко мне. Я чувствовал, как похолодели вдруг ее руки. Она что-то шептала скоро-скоро, – я не мог разобрать что. Наконец я уловил несколько слов:
– И я… И я… О, как я люблю…
У меня мелькнула мысль, что я еще вчера вечером не знал Феличе. Как это странно! Это какое-то безумие… Я тихо выпрямился, не выпуская ее рук, и произнес:
– Ты меня любишь, Феличе? За что?
– Не знаю. Люблю.
– Так скоро?
– А ты? Ведь ты тоже… Разве для любви нужно время? Я не думала…
– Но что с нами будет?
– Не все ли равно?
Она засмеялась. Я уже так привык к темноте, что видел ее черты и заметил ряд маленьких, немного заостренных, зубов.
– Как ты не боишься? Одна в темноте… И если узнает отец?
– Я тебя люблю… И я не одна… Со мной пришла Маргарита. Она там, у берега. А если узнает отец… Что ж, он меня убьет.
Я в ужасе отшатнулся от нее. Но она опять зсмеялась.
– Нет, я пошутила. А какой ты пугливый! Видно, что иностранец.
– Как ты думаешь, отец отдаст мне тебя?
– Меня? О, нет. Ты шутишь! Никогда! Он обещал меня Гвидо, – это кончено. Да если б и не обещал, – ты чужой, ты не наш, ты даже другой веры… Я знаю отца…
– Но что же будет с нами? – повторил я тоскливо. – Нам надо расстаться…
Она удивилась.
– Расстаться? Как же расстаться, если мы любим друг друга? Приходи сюда каждый вечер… Мы будем видеться.
– А если отец заставит тебя?
– Гвидо? – вдруг вскрикнула она. – Никогда! Я умру, – вот и не заставит.
С трагизмом, даже со злостью, у нее соединялась какая-то детская наивность, та наивность, которая бывает только у очень молоденьких девушек. Я был беспомощен перед нею. Она меня ужасала – и умоляла. Я говорил ей, что люблю ее, но что я чувствовал к ней – я не знаю. Это было какое-то безумие.
И я, как она, перестал думать о будущем. Она скрылась, взяв с меня обещание прийти на другой день сюда же.
Я пошел домой, опять без мыслей, добрался до своей комнаты и заснул как убитый.
VII
Наши свидания по вечерам, под скучный плач плоского моря, продолжались. Эти несколько дней я провел, как в бреду. С утра не выходил, лежал на постели, почти не ел, и, едва начинало темнеть, я уже спешил туда, под деревья. Иногда мне приходила странная мысль: не это ли любовь, та любовь, безразумная и страшная, которой я так хотел когда-то? Но почему так мало счастья было у меня в душе, так много тоски, бессилия, почти горя, почти стыда?
Мы редко говорили с Феличе. С ней как-то не хотелось говорить. Она приходила всегда тихо и быстро, точно вырастала из-под земли, мы садились рядом, я брал ее руки и целовал их. Один раз, – только раз! – я ее поцеловал в губы… Это было седьмое наше свиданье. Она казалась печальной и тревожной. И даже намекнула мне, что отец, кажется, что-то подозревает. Я стал расспрашивать ее.
– Мой отец едет завтра в Урбино, – сказала она. – Он хочет, он приказал мне ехать с ним. Но я не могу ехать.
– Он едет надолго?
– На три дня.
– Феличе, – сказал я нерешительно, – отчего же тебе не исполнить его желания? На три дня… А если ты откажешься, – он будет убежден, что тут что-нибудь скрывается…
Она взглянула на меня с непритворным изумлением, потом вдруг гневно сжала брови.
– На три дня! Ты хочешь, чтоб я не видела тебя три дня? Ты, значит, не любишь меня, Джиованни!
Что-то старое, далекое вспомнилось мне. Я опустил голову.
– Да, знаешь ли, что если б мне завтра смерть грозила, я сегодня бы пришла к тебе сюда. Даже если б тебе она грозила, тебе – и то я не могла бы не видеть тебя. А ты говоришь – три дня, чтобы отец не подозревал. Пусть, пусть подозревает, – какое мне дело, я тебя люблю! И весь свет, и даже Гвидо… Гвидо зол… но все равно. Я вижу тебя, я люблю тебя, я с тобой, и не могу, и не хочу думать о том, «что будет».
Она обняла меня, и я ее поцеловал… в первый и в последний раз в жизни. Она говорила мне слова, которые я сам когда-то хотел слышать, но в душе у меня, несмотря на горячее чувство к этому странному ребенку, было не счастье, а ужас.
VIII
Воротясь домой в этот вечер, я застал у себя на столе письмо, вернее – записку, без конверта, сложенную углом и запечатанную облаткой. Спрошенная служанка отвечала, что записку принес неизвестный, дурно одетый человек.
Признаюсь, я распечатал листок с бьющимся сердцем. Кто мог писать мне? Я предчувствовал дурное.
Грубым, вероятно, измененным почерком в записке стояло:
«Иностранец, сойди с чужой дороги. Ты навлекаешь несчастье не только на себя. Торопись уехать. Опасайся темных деревьев. Если ты немного знаешь нашу страну, ты не будешь думать, что это предупрежденье – пустые слова».
Анонимное письмо с угрозами! Этого только недоставало! Я смял листок, бросил его под стол и большими шагами стал ходить по комнате. Не то, чтобы я испугался, – нет! Но какая-то досадная злость, какой-то стыд овладели мной. Что это? До чего я дошел? Мне не семнадцать лет, как Феличе; я, наконец, не итальянец, чтобы забывать простую действительность в любовном порыве. Разум нам дан не для того, чтобы мы им не пользовались и убегали от него, как от чумы. Предел глупости – умереть от ножа какого-нибудь шалаго итальянца. Надо действовать начистоту. Попрошу у синьора Учелли руку его дочери, и если он откажет, – ну, что ж делать! Уеду. Значит – не судьба. Против рожна не пойдешь. Наконец, у меня и сил таких нет…
Вот это-то и было самое главное. Рассуждая, я не замечал, что говорил сам против моих старых проповедей. Но мне было не до них. Усталость и досада наполняли все мое существо.
Чувство это не исчезло и на другой день. Я вышел погулять. Резкое солнце обливало белые дома. Ходили чужие, неизвестные люди. У моря однообразный и утомительный ветер поднимал мелкие, жидкие волны. Чуждое, чуждое… сердце мое болело и плакало. Не нужно ему безразумной любви, слабому сердцу; не нужно ему слишком ярких лучей, слишком широкого морского простора, слишком громкого голоса волн… Травы зеленые, желтеющие нивы на чуть заметных скатах холмов, запах мяты и повилики, пара белых бабочек над стеблями кашки… А Феличе? Я ее любил, но и она чуждая… Я ее любил, но мой дух робел перед нею…
Я пошел на свидание с твердой решимостью. Ждал долго, думал уже, что она не придет… Она явилась вдруг, сразу зашелестела около меня, схватила мои руки, сжала их крепко.
– Ты! Ты! – повторяла она задыхающимся шепотом. – Джиованни… милый… милый… Ты знаешь, я убежала…
– Как убежала?
– Так, тихонько… Отец повез меня в Урбино… В Сант-Антонио меняли лошадей… Кучер был подкуплен… Отец заснул крепко, потому что я дала ему перед отъездом макового настоя… Я вышла из коляски и убежала краткой дорогой… А коляска уехала дальше…
– Боже мой, Боже мой! Но тебя хватятся! Давно это было?
– Давно… После полудня… Нет, отец проспит всю дорогу…
– И ты шла пешком?..
– Что ж? Я сильная, я могу много пройти… И я вижу тебя… Что мне за дело до остального?
Она смеялась. Но я тихо отстранил ее.
– Постой, Феличе, мне надо поговорить с тобой.
– Поговорить? О чем? Разве ты разлюбил меня, Джиованни?
Она не смеялась больше, в голосе была тревога, глаза потемнели и раскрылись.
Я начал осторожно, издалека. Я говорил, что она – ребенок, что я обязан думать о нашем общем счастии. Упомянул о письме («Это Гвидо», – шепнули ее бледные губы), сказал, что надо изменить характер наших отношений, что иначе грозила смертельная опасность не только ей, но и мне… Что она, если любит меня, должна понять… И закончил тем, что я готов открыто просить ее руки у отца.
– Это бесполезно… – произнесла она таким голосом, что я не усомнился в истине этих слов.
– Бесполезно! – сказал я почти громко, вставая и делая над собой усилие. – Бесполезно! Тогда нам нужно расстаться, Феличе. Я не могу, я должен уехать. Как я люблю тебя – ты знаешь, ты чувствуешь… (Я точно любил ее ообенно в эту минуту.) Это не оттого, что я испугался угроз твоего жениха… Если я боюсь, то за тебя одну… Пойми, это для твоего блага, для твоего счастья, для твоего спокойствия…
Она вдруг вырвала из моих свои холодные как лед руки, вскрикнула громко, отчаянно и бросилась прочь. Крик ее, надорванный и дикий, поразил меня. Я хотел кинуться за нею, но я даже не заметил среди тьмы, как она исчезла. Сердце мое разрывалось от любви, муки и раскаянья. Никогда этот ребенок не был мне дороже. Я, кажется, плакал тогда. Не знаю, сколько времени я простоял бы там, но в листве послышался шорох, заглушённые голоса. Может быть, это Гвидо подстерегал наше свиданье. Я быстро пошел из сада и через пять минут был в своей комнате. Голова у меня кружилась и горела. Мне нездоровилось. И последний отчаянный крик Феличе звенел у меня в ушах. Я плакал, я мучился, но что делать? Я был бессилен.
Ночь прошла в бреду. Утром служанка явилась ко мне с кофейником на поднос, по обыкновению, и была очень удивлена, найдя меня в постели.
– Ах, синьор, а какое у нас в городе несчастье, – затараторила она, причем лицо ее выражало больше любопытства и удовольствия, чем горести. – Синьор помнит семейство Учелли, о котором ему угодно было меня расспрашивать? Молодая синьорина, красавица, в отсутствие синьора директора, нынешнею ночью отравилась!..
Я приподнял тяжелую голову и спросил старуху, глядя на нее прямо и почти не замечая ее:
– Отравилась?
– Да, да, синьор, вообразите! И чем? – нашатырным спиртом! Какие мучения! Ни один доктор не мог. Маргарита, – ведь она мне приятельница, – просто с ума сходит.
Дальше я не слышал. Я бессмысленно улыбнулся и опять опустил невыносимо отяжелевшую голову на подушки…
IX
Я проболел месяца два. Кое-как меня лечили, кое-как за мной ухаживали. В первый же день, когда я мог двигаться, я уехал из этого проклятого города. Я был еще слаб, но длинное путешествие не испугало меня: я поехал прямо в Россию, в мое имение, в Новгородскую губернию. В начале июня был уже там. Мой старик умер, Акимовна жива, только стала плохо слышать. Она так обрадовалась мне, что я сам чуть не разрыдался. Сад мой разросся, немного одичал, но по-прежнему свеж и зелен. Березу на дворе, жалко, срубили. В пруде по-прежнему плещутся милые желтые утята… Я был на тех лугах… Они по-прежнему стелются зелено и пышно, ветер гуляет по верхушкам трав, и мне сладко и радостно, и хочется сказать, как тогда Варя сказала:
– Это родное… Родное…
Милая, тихая Варя! Одну тебя я любил, одну тебя не понял и обидел… Я хотел от нее того, чего сам не мог ей дать. Она любила меня «всем сердцем, всей душой»… ради какого призрака я оттолкнул это сердце?!.
Я знаю, что она живет по-прежнему одна, после смерти матери, живет тихо, никого не видит, одевается в темные цвета…
Если я пойду к ней, если я скажу ей, что люблю, как умею, что хочу я тихой и разумной любви, что она одна мне родная, что я ей буду верным и добрым мужем, – протянет ли она мне руку?
А та любовь, чужая, непостижимая, – Бог с ней! Мое сердце к ней бессильно. Но кто может вместить – да вместить.
Иван Иванович кончил. Он был взволнован, – но не очень.

