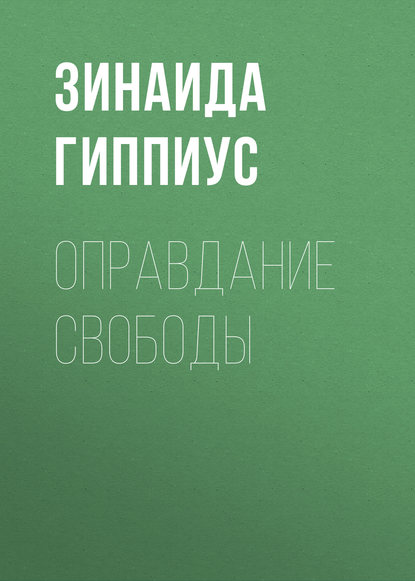 Полная версия
Полная версияОправдание Свободы

Зинаида Гиппиус
Оправдание Свободы
I
В своей книге «Философия неравенства» Н. Бердяев рассматривает вопросы общественные и рассматривает их с религиозной точки зрения. Хочет взять общественность – «в свете религиозного сознания».
Я не собираюсь заняться подробной критикой его многосложного и многословного труда, да вряд ли это было бы мне и под силу. Но я хочу говорить о тех же вопросах, о которых говорит Бердяев, – общественных, – с той же точки зрения – религиозной; и книга «Неравенства» поможет выяснению моих собственных взглядов, если я буду ею попутно пользоваться.
Почему, при одинаковом, казалось бы, критерии, мы столь не одинаково судим и столь разнствуем в выводах? Это, как мой личный спор с Бердяевым, не имело бы интереса. Но дело не в споре. Важен самый предмет и то, что мы оба рассматриваем его «в свете религиозного сознания».
А на религиозном сознании, и только на нем, построится будущая общественная идеология.
Я подчеркиваю: на религиозном сознании, ибо просто религиозными уже есть и были все доныне существовавшие идеологии. Нужно ли это доказывать? Достаточно обратить внимание на самое слово «идеология»: в нем неизменно присутствует элемент иррационального.
Впрочем, иррациональное до такой степени объемлет нас, до такой степени пропитывает действия, понятия и язык человечества, что из него, по свидетельству самого разума, выхода нет. Поэтому человечество (и каждый отдельный человек) всегда было, есть и будет религиозно в существе. Первично и природно религиозно.
Можно ли, однако, эту первично данную, природную религиозность называть религиозностью? Думаю, что можно и должно, хотя бы религиозное сознание в ней и вовсе отсутствовало. Но в процессе жизни это сознание ни у кого вполне и не отсутствует: в соответствии с мерой и качеством ее – создаются формы личной или общественной жизни.
Человек не может стать частью самого себя: когда он думает, что покончил с «верой», – он только меняет ее содержание. Его религиозное сознание прогрессирует или регрессирует. Идолопоклонство, рационализм, атеизм или морализм – все это разного качества веры и даже известная степень религиозного сознания. Бакунин из пламенно верующего в Дух сделался столь же пламенно верующим – в атеизм. Кто-то, у Достоевского, кажется, так прямо и кричит: «Я верю, верю… что не верю в Бога!» Люди, не думающие вовсе об этих вещах, имеют minimum религиозного сознания; но вера и в них не перестает действовать, только объектом ее становится что попало.
Все это доступно самому простому рассуждению, и если бы рационалисты не относились к «рацио» со слепым поклонением, а заставляли его нормально им служить – мне не пришлось бы повторять эти общие места о вере, об иррациональном в жизни и т. д. Но, увы, даже самые слова наши, благодаря неосторожному обращению с разумом, – затмились, потеряли точный смысл, первое значение, и нередко спутывают понятия.
Не следует, например, смешивать бытие – с жизнью, реальной жизнью в ее совокупности. Жизнь – только потенциальное бытие, становящееся бытие. И жизнь – борьба двух начал или двух Духов: возводящего к бытию и спускающего к небытию. Это – борьба во Времени, между двумя Вечностями: вечной Жизнью (бытием) и вечной Смертью.
Пусть не упрекают меня в отвлеченности. Я говорю не о какой-то войне в воздухе, где-то в сомнительно-существующих, надзвездных сферах, а о грандиозной борьбе в самой реальнейшей реальности, притом отнюдь не проявляющейся только в грандиозных формах. Она наполняет все формы. Нет пылинки в мире, нет ни единого движения человеческого, душевного или телесного, – где бы элемент этой борьбы отсутствовал.
Потенция заложенного в мире Бытия ставит перед человечеством три вопроса и требует положительного их разрешения, вернее – maximum'a приближения к нему в процессе постоянного устремления воли.
Только три исчерпывающих вопроса: каждый из других, бесчисленных, больших и малых, рожденных сложным многообразием жизни – непременно вливается, на глубинах, в какой-нибудь из трех основных. Внутри этих вопросов происходят все драмы и трагедии человеческие, потому что внутри них протекает история – жизнь-борьба духа Бытия с духом Небытия.
Эти вопросы: во-первых – о «я», единственном и неповторимом (Личность).
Во-вторых – о «ты», о другом единственном и неповторимом «я» (личная любовь).
В-третьих – о «мы», о всех других «я» в совместности (общественность).
Найти наиболее высокое и правильное отношение: к самому себе, к миру-космосу, к Богу; к подобной, но другой Личности; найти, наконец, такие же отношения между всеми людьми – вот тройная задача, поставленная перед человечеством. Совершенное ее разрешение – Бердяев прав – невозможно в условиях относительности; но, ища, все более и более приближаться к решению – таков смысл жизни.
Я не боюсь повторить эти два слова, затертые от повторений, ибо я употребляю их в значении самом точном и прямом: да, именно в искании бытия, в борьбе за бытие (жизнь, освобожденную от Смерти) и заключается смысл того, что мы называем реальной жизнью.
«Вы не ищете смысла жизни!» – обличает Бердяев. Неправда: все человечество, непрестанно и неустанно, смысла ищет; только это, живя, и делает; да и что бы другое оно еще могло делать? Ищут его сознательно и бессознательно, даже когда не подозревают, что ищут. Ищут действием, мыслью и словом, ищут сильные и слабые, великие и малые… Не ищут, перестают искать, только до конца побежденные Духом небытия, уже выходящие из строя. Эти, если живут еще «некое малое время», то лишь для того, чтобы творить волю Победителя и затем «низринуться с крутизны в море…» подобно евангельскому стаду. Но таких бесполезно и обличать.
Три вопроса, составляющие содержание жизни, названы мною одной «тройной задачей». Они, действительно, имеют единство, – единство уровня воды в трех сообщающихся сосудах. Кто не наблюдал, как эти вопросы сцеплены, вкраплены друг в друга, как один переливается ими всеми, а все – одним? Но для нас они иногда бывают разделены временем. Нам кажется, что один из трех выступает вперед, и наше внимание обращается главным образом на него. Тогда и внимание Соблазнителя, умного духа небытия, обращается в ту же сторону, и как раз на этом поле происходят самые жаркие битвы.
Я потому останавливаюсь так долго на общей, примитивной, схеме «религиозного сознания», что без нее будет менее понятно последующее. Эта схема так первична и внеспорна, что в ней вряд ли и с Бердяевым у нас будет разногласие.
Одинаково мы видим и «природу» зла. Правда, Бердяев говорит о «сатанинских идеях» и тут ошибается: «сатана», дух небытия, никаких идей не имеет. Злое начало потому и злое, что чисто разрушительное, не могущее ничего ни создать, ни построить. Его работа – искажение, искривление, порча уже созданного, а главные орудия – маска и зеркало. Он любит маску, зная ее неотразимость. Зеркалом пользуется, чтобы нашу же идею показать нам в обратном, перевернутом, виде и заставить нас от нее отречься. Эти «маски, подмены» Бердяев прекрасно видит. Видит и религиозную, или «обратно-религиозную», сущность интернационало-большевизма, ныне царствующего в России: «Интернационализм, – говорит он, – есть безобразная карикатура, изолгание вселенского духа, лживое подобие…».
Положим, как не увидеть, когда и самому обыкновенному, среднему человеческому сознанию это слишком ясно. Русский «коммунизм» до грубости резко объявил себя именно религией; коммунистическая партия играет роль церкви, до мелочей повторяя церковь христианскую, в обратном виде, конечно. Ни песчинки нового, – только переверт; все положительное заменено отрицательным: свобода – рабством, созиданье – разрушеньем, жизнь – смертью. Даже не математика, даже не арифметика – автоматизм.
Если чему удивляться, так разве тому, что эта «сатанократия», и даже вид людей, руками которых она делается, опустошенных до мертвости автоматов, – еще не всех заставили содрогнуться. А видя умиранье себе подобного – и зверь дрожит, начиная понимать смерть.
Бердяев – понял, но… Бердяев не выдержал: соблазнился о сатанократии. Не ею, а именно о ней. Соблазниться о чем-нибудь – на религиозном языке значит ослепнуть, заворожиться так, чтобы уж во всем и везде видеть только предмет соблазна.
«Чтобы правильно оценить какую бы то ни было идею, – говорит Бердяев, – надо ее брать в крайних точках», и немедленно начинает поиски «крайних точек» идей равенства, демократии, свободы, революции и т. д.
Будем говорить начистоту. Бердяев это делает с целью доказать, что все идеи, касающиеся человеческой общности (социальности) и имеющие главной базой свободу, все они, в крайней точке своего развития, – упираются в большевизм.
Бердяев не первый и не последний. Много таких же, как он, «соблазненных», оглушенных ударом по России, старающиеся доказать – иным методом, в иной плоскости, – но то же самое.
Впрочем, и Бердяев, как ни странно, теряет свою основную точку зрения, чуть только подходит к общественным вопросам, спускается к реальности. Религиозное сознание его гаснет; остается одна религиозная терминология.
О глубокой причине такой потери при оценке известных идей и явлений я скажу ниже; пока замечу лишь, что потеря сказывается даже в мелочах: Бердяев не устает утверждать качество преимущественно перед количеством, тогда как для религиозного сознания оба понятия равноценны. Не требует ли «гармония» (истина) и качества, и количества? Но она требует и меры.
Бердяев – меры не знает.
II
Книга начинается с определения идеи «революции» (идеи, или самих, доныне бывших, революций – трудно понять в смешении; но и само смешение характерно).
«Революция никогда не была и никогда не может быть религиозной, – говорит Бердяев. – Революция всякая революция, по природе своей антирелигиозна, и низки все религиозные ее оправдания». «На всякой революции лежит печать богоотставленности и проклятия…» «Революционизм есть утверждение смерти и тления вместо вечной жизни». «Революция не духовна по своей природе. Революция статична. Русская революция есть тяжелая расплата за грехи…». Чьи же?
Ответ очень определенный, и грешные – уж не в одной революции, а вообще в гибели России – перечислены с большим тщанием:
«Близоруко и несправедливо винить во всем большевиков». Виновные – это «народники, социалисты, анархисты, толстовцы, славянофилы, теократы, империалисты и др.». (Кстати, кто эти «др.»? Тут уж все русское сознание, целиком.)
И тяжеле всех виноваты – «вы, умеренные русские социалисты и радикалы всех оттенков, русские просветители, происходящие от Белинского, от русских критиков, от русских народников…». «Это вы низвергли Россию в темную бездну», вы, «вначале выступившие с невинными лозунгами народолюбцев, а потом превратившиеся в разъяренных зверей, и злодеяния вашего не простят вам грядущие поколения русского народа. Большевики лишь сделали последний вывод из вашего долгого пути, показали наглядно, к чему ведут все ваши идеи».
Отчетливее нельзя сказать. Не ясно ли, чем окажутся «все эти идеи» при дальнейшем разборе и как разбор будет производиться?
Не с религиозной точки зрения, во всяком случае. Для религиозного сознания такие хулы – грех (не сужу, простимый ли). Но и для всякого человеческого сознания неприемлемо такое огульное отрицание духовной жизни России, даже не в России только – духовной жизни человечества в истории, его порывов к свободе и совместности – к Царству Божьему. Не сам ли Бердяев называл раньше этот порыв «святая святых истории?» А в центре всех «идей», которые он ныне втаптывает в грязь большевизма, идей пусть малоосознанных, доступных соблазну искажения, лежит тот же порыв. Да, совершенное Царство Божие мыслится лишь в бытии, а не в жизни, где нет совершенной свободы и совершенной любви. Но Бердяев забыл, что жизнь должна творить образы и подобия Царства Божия, все более и более приближающиеся к совершенству, и что свято усилие дать каждому моменту его maximum свободы и любви.
Кажется, свободы-то Бердяев больше всего и боится. Маска свободы, которую он увидел, соблазняет его. Ему уже думается, что всякая человеческая свобода на земле – только маска, а под ней – темное лицо…
Но что же такое, однако, «все эти идеи» – революции, свободы, равенства, демократии, – не по Бердяеву, не для соблазненных, а для религиозного сознания?
Начнем и мы с революции.
В истинном значении слова, революцией следует называть не то, что мы обыкновенно называем, но революционный момент. В нем (т. е. именно в «революции») Божий дух свободы соединяется на миг с земною плотью. Говорю на «миг», но и миг – измеренье времени, а революция, в религиозном понятии, этого измеренья не имеет: она один из прорывов Вневременного во Временное. Личность знает эти прорывы в созерцаньи и в любви; общность человеческая – в свободе. Дух свободы такой же Божий, как и дух любви.
Революция не имеет дленья (la durée, по Бергсону), и когда мы говорим о «революции» – мы говорим, в сущности, о временах, окружающих этот миг; о времени «послереволюционном», о революционных «эпохах»… Отсюда и споры, когда именно, какая революция кончилась. Споры неразрешимые, ибо революция есть реальное, но неуследимое мгновенье.
Конечно, мы не можем, находясь во времени, мыслить иначе, как условно. И если я указываю на революцию как на момент «прорыва» – то лишь для того, чтобы раз навсегда отстранить от нее упреки, подобные бердяевским. Да, революция не «духовна», но потому, что она, в высшей точке своей, «духовно-телесна». Да, она и не «динамична» в обыкновенном понятии, но потому, что она – взлет, крайняя динамика.
Я отнюдь не отрицаю факта, что послереволюционное время всегда было ужасно; я соглашаюсь с Бердяевым: конкретный смрад русских послереволюционных годов превзошел все, что мы знаем о таких годах в истории. Я соглашаюсь далее, что в этом смраде повинны мы все, не одинаково – но равно, каждый в меру самого себя. И начав считать чужие вины (по-моему – практичнее заниматься своей), мы, пожалуй, найдем, что на Бердяеве лежит вина куда тяжелее, чем на «свободолюбцах», «народолюбцах», «русских просветителях, радикалах, критиках», на всей, им уничтожаемой, русской интеллигенции. Вина, всегда, – по степени сознания. Если степень сознания у русской интеллигенции была ниже, чем у него, Бердяева (а он сам это говорит), то не могу ли я ему напомнить слова, очень к нему, в данном случае, относящиеся: «Кто не видит, тот не имеет греха; а так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
Мне стоит больших усилий высвободить ясное положение из обличительного бердяевского многословия: откровенно сознаюсь, что постоянно в нем вязну. Резюмируем, однако: злая воля русской «безблагодатной» интеллигенции стремилась к революции – для революции, к революции – религии, и эта революция погубила Россию. Так утверждает Бердяев.
Но я утверждаю, что революционный момент (настоящая «революция»), при всей полноте, никогда не бывает самодовлеющим. Революция самодовлеющая, «революция для революции», «революция – религия» – есть в лучшем случае абсурд, в худшем – безумие, так же как свобода: и свобода – лишь от чего-нибудь, для чего-нибудь.
Революция, действительно, есть «окончание старой жизни», но окончание для начала новой. Создает ли революция новую жизнь? Нет, ибо новая жизнь, опять не совершенная, строится во времени, а революция не имеет дления. Но для создания новой жизни революция есть начальное условие – как бы раскрытие дверей в эту жизнь. Лучшую или худшую – другой вопрос. Лучшую или худшую – это зависит уж не от революции, а от строителей, т. е. от людей послереволюционного времени; главным образом от их осознания пережитого момента и сознания громадной опасности периода, непосредственно за революцией следующего.
Почти всегда эти первые строители, «люди революции», – гибли. Не потому, что не чиста была их воля к революции до ее наступления и воля к созданию новой жизни – после. Но воля эта оставалась у них такой же идеалистически-бессознательной и после революции, как была до нее, если, – в худших случаях, – не разлагал эту волю соблазн «власти».
Люди революции никогда еще не были, внутренно, в рост революции, которую переживали.
Прибавлю: о революционном моменте почти ничего нельзя сказать словами, как о многих вещах того же порядка. Рассказать же о нем тому, кто «порядка» не понимает, а сам в моменте не был – совсем невозможно. Однако бывший и не забывший – хотя бы февральско-мартовскую русскую революцию – поймет, о чем я говорю.
Один и тот же луч (не «печать богооставленности», а печать богоприсутствия) лежал на лицах всех людей, преображая лица. И никогда не были люди так вместе: ни раньше, ни после.
Пускай многие, пускай даже все, бывшие тогда вместе, ныне проклинают революцию, и русскую, и французскую, и английскую, – всякую революцию. Это ничего не меняет. Все-таки соединяющий луч лежал на человеческих лицах, все-таки – это было.
Бердяеву, конечно, язык мой непонятен. Бердяев или не прошел опыта, или забыл его. Но Бердяеву я хочу предложить один вопрос, очень конкретный, совсем в ином плане.
Всякая революция, везде и во все времена, – достойна проклятия? Воля к революции – дьявольская воля? Желать революции – грех? Каждой революции должно сказать «нет»?
Ну, а представим себе (это очень представимо), что сегодня, завтра совершается революция в России. Она будет именно такая же, как всякая, во имя свободы и ради новой жизни, против «существующей власти»…, которую Бердяев, согласно со мною, считает реакционнейшей из всех, доныне возникавших, и отлично знает, что никогда большевики «революционерами» не были, да и большевицкой революции – не было.
Что же, скажет Бердяев завтрашней русской революции – «нет»? Проклянет ее? Осудит волю к ней как греховную?
Я сильно подозреваю, что и у Бердяева, где-то в глубине души, таится эта самая, «греховная», воля. Пожалуй, он и не скажет, что грядущая русская революция ему «отвратительна, как всякая революция».
Непоследовательность? Да, но зато шаг вперед по пути истинного религиозного сознания.
III
Отвращение к революции связано у Бердяева с отвращением к демократии, а, главное, к идее равенства, на котором, как он думает, основывается демократия.
Какое же равенство Бердяев разумеет?
У Джерома К. Джерома есть рассказ-утопия о будущем человеческом устройстве, где равенство доведено почти до идеала: вместо имен люди имеют номера (с именем – какое же равенство! Одно имя хуже, другое лучше). Волосы у всех выкрашены в одинаковый черный цвет. Тому, кто родился более умным, – сверлят дырочку в черепе, а более других способному отрубают левую (или правую) руку. Все для равенства, для Уравнения.
На таком «равенстве», по Бердяеву, основана «демократия». Он не раз определяет это равенство: «уравнение всех, нивелировка». Понятно, что и «нивелирующая» демократия является перед Бердяевым в виде некого чудовища – «человекообожествления, где народ довлеет самому себе, где верховное начало – его собственная воля, независимо от ее содержания». Просто – «хочу, чего захочу», а так как «демократическая идеология есть крайний рационализм» и даже «не может признать государства», то легко себе представить, что такое демократия: «В век ее торжества, – объясняет Бердяев, – нет уже святости и гениальности, ибо демократия не благоприятна появлению ярких, творческих личностей» (еще бы! сейчас, по Джерому, дырочку в черепе!) – и даже «старая тирания с кострами инквизиции оставляла больше простора для человеческой индивидуальности».
Действительно, уж лучше костры, чем джеромо-бердяевская демократия и ее проклятая нивелировка!
Но религиозному сознанию нечего делать с этой дикой демократией, порождением такого же дикого равенства. Как «осознавать», да еще религиозно, то, что не имеет ни малейшей связи с реальностью?
Равенства-уравнения не только нет в мировом порядке, но его никогда, нигде и не будет, так как его нет в самой воле человеческой (совпадающей в этом с Божьей).
Еще никто на земле, ни разу, не пожелал подобного равенства. Начиная с первой детской мечты – «хочу открывать новые страны», «хочу быть самым сильным», – наши желания говорят вовсе не о воле к равенству: ведь и ребенок, инстинктивно, знает, что если все будут открывать новые страны и сделаются первыми силачами, то не будет ни новых стран, ни силачей. А одна девочка раз хорошо объяснила, почему «не надо, чтобы все люди были одинаковые»:
– Тогда у всех будет никчемная незамечательность.
Неудачник может сказать в озлоблении: я обездолен – пусть бы и все стали такими же обездоленными! Но и он этого вовсе не хочет – просто хочет сам из своего положения выйти.
Воля человеческая – есть воля к восхождению, и, в существе, раскрывается она как воля всех и каждого достичь maximum'a своей высоты. На религиозном языке это зовется «исполнением своей меры». И не к созданию равенства всех направлены усилия человечества, а к созданию равной для всех возможности свою задачу выполнить.
Но такое равенство – есть равенство-равноценность.
В евангельской притче о талантах, каждому – получившему десять талантов и получившему два, – было сказано равно: «Войди в радость Господина Твоего». Лишь тот, кто зарыл данное ему в землю, не приобрел сам в меру данного, назван «лукавым и неверным». И «тема внешняя» (небытие) вовсе не была ему кем-то послана «в наказание»: нет, ему самому уже нельзя было «войти в радость», ибо сам он, в равных с другими одаренными условиях свободы, не исполнил своей меры; мог – и не захотел.
А равенство-одинаковость… даже темный дух небытия, отвлеченный, но жадно ищущий воплотиться, – прекрасно знает, что мы такого равенства не хотим. Не хотим, не понимаем до невозможности им и соблазниться. Поэтому словом «равенство», как соблазном, темный дух пользуется лишь там, где оно воспринимается и понимается в нужном ему смысле.
В этом смысле поняла его французская угольщица: встретив, тотчас после революции 48-го года, знатную даму с ведром угля в руках, закричала радостно: «А ты шелковые чулки носила (куда ты их припрятала?), а я таскала уголь! Теперь я буду ходить в шелковых чулках, а ты уголь таскать: теперь – равенство!».
Именно так понимается, – физиологически ощущается, – «равенство» и доныне, если оно «соблазняет». Под прикрытием этого слова соблазняет самое страшное из неравенств, – перманентное и перемежающееся: я вверху – ты внизу; ты вверху – я внизу; я ничто – ты все; ты ничто – я все.
Это с большой точностью выражено в «Интернационале»:
«Nous ne sommes rien – soyons tout!»[1].
Конечно, кто сегодня кричит «soyons tout» – не знает, что по железной необходимости, за «tout» следует опять «rien»… Но французская угольщица и не может видеть дальше сегодняшнего дня: иначе не соблазнила бы ее маска «равенства»…
Спастись от этой «дурной бесконечности» неравенства утверждением какого-нибудь неравенства – нельзя. И Бердяев просто-напросто обходит французскую угольщицу, – как всякую реальность, – и старается продолжать войну в воздухе. Мы сейчас увидим, к чему это его приводит.
Своей утопической «демократии» (человеко-божеской, не признающей государства и основанной на равенстве, по Джерому) Бердяев противопоставляет свое же «идеальное» общественное устройство. В нем «неравенство» открыто возведено в принцип, взято как исходная точка. Аристократия (меньшинство) управляет демосом (большинством). Демос – есть некий безгласный «коллектив». (Надо заметить, что слово «коллектив», по существу нейтральное, в устах Бердяева имеет отрицательное значение: это нечто вроде герценовской «паюсной икры». Отсюда, должно быть, и утверждение, что «в Царстве Божьем никаких коллективов не будет».)
Между аристократией и демосом, который как «коллектив» голоса или воли естественно не имеет, – разница качественная, т. е. решающая: ведь для Бердяева категории «качества» и «количества» не равноценны. Сделаться «аристократом» нельзя: надо родиться. Рожденный плебеем – всегда им и останется. И, вообще, всякое желанье возвыситься – плебейство.
Пока – нового мало. Мы даже видели некоторые (о, самые несовершенные!) воплощения этих принципов в историческом прошлом. «Не обманывайте себя! – говорит Бердяев, обличая, – везде, всегда правило меньшинство!». И тут нет нового. Если взять это положение формально, то можно даже согласиться, что и впредь, всегда, государственное управление будет принадлежать фактическому меньшинству. Это большевики могли обещать русским кухаркам, что оне все будут править государством, – да и кухарки не верили…



