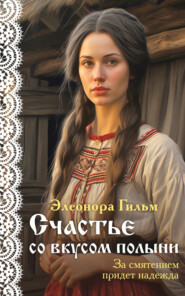
Полная версия:
Счастье со вкусом полыни

Элеонора Гильм
Счастье со вкусом полыни
© Гильм Э., 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Пролог
Окунули ее в жидкое пламя, залили в глотку три бадьи кипятка, чтобы внутренности спеклись. Аксинья слышала, как молится женщина, как воет ветер за окном, как скребут ветки по крыше.
Не открывая глаза, она ощупала живот. Сколько дней лежит в бреду? Неведомо.
Живот оказался плоским. Тот, кто сидел в утробе ее, вышел наружу. Живой ли, мертвый ли, Аксинья не знала. Огонь, горевший внутри, лишал сил и намекал, что сын не выжил. Она попыталась открыть глаза, но веки, словно сшитые чьей-то дерзкой рукой, отказывались свершить сие нехитрое действо.
Кто-то погладил ее запястье шершавой рукой, промычал что-то, и Аксинья вспомнила Горбунью.
– С-с-сын, сын мой… Что с ним? – Она говорила и говорила, но никто не спешил отвечать. – Сын, сын, сын, сын!
Тело предавало ее, рука только мелко дрожала под ласковыми поглаживаниями повитухи. Аксинья знала, что не вынесет и мига страшной неопределенности. Увидеть тельце, рыдать, просить о милости…
– Аксинья, тебе лучше? – Она узнала голос Анны Рыжей и попыталась повторить завязшее в зубах слово. – Ты чего шепчешь-то? Не пойму я.
Аксинья все растягивала губы: «Сын». Трясущимися руками она провела по векам – не сшиты ли? Нет, значит, можно разлепить.
Она с трудом открыла глаза. Сразу ударило по зрачкам пламя свечей. Горбунья сидела возле ложа, Рыжая Анна держала миску в руках, что-то жидкое плеснулось на половицы. Она подняла на Аксинью тревожный взгляд, повернулась к Горбунье, а та только крутила длинным носом из стороны в сторону.
Издеваются, что ль? Аксинья хотела поколотить всех. За глупость, непонятливость, за то, что погубили ее дитя. Если бы она могла сама… Гнев придал ей сил, и Аксинья попыталась встать, да только тело противилось.
Глава 1. Семья
1. Возвращение волка
Шла вторая неделя Поста, вечер обитатели дома проводили в тихих разговорах.
– Когда уж вернутся они? Истосковалась я по голубю своему ненаглядному. – Молодуха с ладным, чуть оплывшим лицом переплетала нитки на ткацком стане. Тонкие проворные пальцы выполняли непростую работу играючи, бело-коричневая пестрядь[1] рождалась на глазах.
– Настанет срок – приедут, – с показным равнодушием отвечала ей вторая, занятая вышивкой.
Она переступила порог четвертого десятка, но морщины почти не коснулись гладкого, чуть смугловатого лица. Темные, вытянутые к вискам глаза, смоляные брови и ресницы выдавали толику инородческой крови. Волосы прятались под светлым убрусом, что плотно обхватывал голову, но всякий бился бы об заклад, что косы ее темны, словно грива вороного коня.
– Аксинья, ты не меньше моего ждешь. Только изображаешь равнодушную да спокойную. – Молодуха выпустила из рук нити, резко встала, охнула и схватилась за поясницу.
– Ты, Лукаша, не гневайся. Дитю покой в утробе нужен. А что ж до меня… Боюсь: Хозяин вернется – и вновь покоя не будет.
– Слышала я все… Все! Как вы там… – Лукаша подошла к большому бронзовому шандалу[2], поправила свечку, что зависла в печальном поклоне.
– Мне смущаться уж нечего. Сама знаешь – и в кипяток ныряла, и по ледяному полю ходила. – Аксинья смотрела на молодуху словно на малое, неразумное дитя. – А с грехами мне самой жить – Бога гневить.
– Да ты прости, подруженька. Вырвалось лишнее слово сгоряча.
– Подслушивала-то зачем?
Лукаша поймала ее чуть насмешливый взгляд. Руки Аксиньи не прерывали ни на минуту работы, нить выходила ровной, гладкой, словно волосы той, что не приносила еще дитя.
– Проснулась да пошла до нужника. Случайно там оказалась. – Краска залила ее милое лицо. Лукаша еще не научилась усмирять предательский румянец.
Аксинья давно, от матери, слыхала, что молодость уходит вместе с умением мучительно, резко краснеть. Научишься врать – постареешь.
– Скажу, ежели знать хочешь… Только за дверцей глянь – нет ли Нютки моей? Ей, ребенку, слышать срамные слова не надобно.
Лукаша послушно выглянула из светелки, поправила лазоревый убрус, обошла вокруг Аксиньи, словно хоровод вокруг весенней березки водила.
– Ты с ним, со Степаном, жить как жена будешь?
– А это как он велит. Хоть как жена, хоть как служанка последняя, в хлеву выгребать загаженную солому. Подневольная я. – Аксинья наконец отвела глаза от Лукаши. И самой себе не призналась бы, что разговор для нее тягостен.
Как дать разумный, спокойный ответ на те вопросы, что терзают денно и нощно?
– По сердцу он тебе иль нет? Гляжу и понять не могу. Зубами щелкаешь, как волчица, от одного имени кривишься, а там… – Лукаша оборвала себя на полуслове.
Аксинья представила, как молодая женщина прижималась к шершавой бревенчатой стенке, слушала, замерев, и закрывала рот ладошкой, чтобы не вырвался вскрик негодования или изумления. Вернулась под бок к мужу, прильнула теплым, зовущим телом к его спине, гладила жадными ладонями, ощущая непонятную жажду, а потом со вздохом отодвигалась – запрет пастырей строг[3].
– Бывают чувства ровные, ясные, точно погожий летний день. Так у тебя с мужем. Степан и я – буря и деревья, что клонятся к земле. Гляжу на него, поднимается что-то к горлу. Плакать тянет, и кричать, и смеяться – все сразу. – Аксинья, обычно сдержанная, серьезная, чувствовала, что слова рвутся из нее, текут полноводной рекой.
Люб не люб, она и сама не могла сказать, что кипело в котле ее души. Ярость, обида, воспоминания о предательстве: кто оставил ее, беззащитную, с ребенком и не удосужился появиться ни разу за долгие восемь лет? Жгучая благодарность за помощь, за мешки с зерном… Желание прижаться крепко-накрепко, превратить наглую усмешку во взгляд, полный восхищения. Все, что бурлило в ней сейчас, требовало выхода.
– Потехе дурно стало! Мамушка! – белым вихрем ворвалась в светлицу синеглазка лет десяти. По взволнованному голосу ее Аксинья и Лукаша поняли: дело серьезно.
Девчушка припустила вниз по лестнице. Резные перила, невысокие ступени были удобны для маленьких женских ног. Аксинья, подобрав подол домашней рубахи, побежала вслед за ней, словно не давили три прожитых десятилетия.
– Да куда же вы? – Лукаша медленно спускалась, держась правой рукой за перила, левой окутывая живот, защищая его.
В переплетении сеней, жилых и нежилых клетей прятался небольшой закуток, где обитал Потеха. Стены, увешанные пучками трав, ветками малины и смородины. На лавках – корзины с шиповником и вяленой рябиной. Живой дух пижмы и тысячелистника витал здесь, словно на луговой окаемке леса.
– Потеха, ты чего ж удумал? – Аксинья с тревогой вглядывалась в небольшого человечка, который скрючился на лавке под рваным одеялом.
– Помирать пора, Окшушенька, – неразборчиво пробормотал он и обхватил узкую ладонь женщины непомерно крупной рукой, что, казалось, принадлежала более молодому и сильному мужчине.
– Да куда ж тебе помирать? Что стряслось, Потеха?
– Шел, шел да упал, полешки по кухне рассыпал. Мамушка, помоги Потехе. Как без него? – Девчушка схватила со стены зеленый пучок, трясла им, словно мать не видела травяного изобилия.
– Нюта, угомонись. Мне с хворым поговорить надобно… Ромашку оставь в покое и верни на крюк.
Аксинья подвинулась к старику поближе, так, что тепло ее крепкого тела перетекало в его изнуренную плоть.
– Пора мне отдохнуть, девонька. Да и на кой нужен я, штарый пень? – Потеха обращался к ней словно к босоногой хохотушке.
– Как мы без тебя? Нютка следом за тобой ходит, слово ловит. А Хозяин… – Она долго увещевала Потеху, заваривала травы, вливала их в ставший покорным и жадным рот, терла шерстяной рукавицей руки и ноги, просила помощи у матери-природы.
Потеха стал для Нютки дедом, которого не успела она узнать, старшим добрым другом для Аксиньи и Лукаши, а уж с Хозяином дома, Степаном Строгановым, старика связывало что-то особое, сокровенное, уходящее в такую глубь, какой Аксинье никогда не узнать.
* * *– Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей Василия, Анны, Федора, Матвея… – Аксинья шептала слова молитвы, перед взором ее проходили те, о чьем упокоении она просила.
Отец – умелый гончар и видный мужчина, крепкий, разумный, и невзгоды не смогли согнуть его спину. Мать – воплощение доброты и благости. Брат – несчастный Феденька, который любил и защищал младшую сестру, грешницу. Матвейка… Здесь по лицу Аксиньи лились бесконечные слезы, сердце, должное просветлеть, преисполниться благости, сжималось от бесконечной вины.
– И за Степана Строганова, благодетеля моего, прошу, – шептала она на исходе молитвы и сил, когда свеча догорала и мрак клубился за окном словно черный кот.
Дочку давно сморила шелковая ночь, она, укутавшись пуховым одеялом, видела третий сон. Аксинья, терзаемая муками совести, все не спала. Суббота четвертой седмицы Великого поста истончалась, уходила в прошлое вместе с молитвами и страхами.
* * *Ручей бежал, позвякивая серебряными колокольчиками, окатывал ледяной водицей поваленный ствол вековой сосны. Аксинья в одной рубахе сидела на том дереве, опустив пятки в ручей. Солнце пригревало ее темную непокрытую голову, уши ловили жужжание пчел, и жизнь казалась легкой и благодатной. Она закрыла глаза, уйдя в негу и…
Обнаженных ног коснулось что-то теплое, мягкое, пощекотало колени. Она, не открывая сонные глаза, протянула руку, коснулась густой шерсти и, ни капли не убоявшись, впилась ласковыми перстами в лохматый бок, зверь отвечал ей довольными звуками. Перекатывались мощные мышцы, волк, чуть повозившись, привалился к ее ноге, обдав шерстяным жаром.
– Устал с дороги? – спросила Аксинья, продолжая гладить зверя.
Тот не отвечал, лишь рыкнул что-то неясное, не гневливое – скорей усталое.
– Как жить мне теперь? – Она открыла глаза, чтобы вглядеться в существо, что застыло покорной глыбой у ног.
Светлая шерсть с бурыми подпалинами на спине и боках, мощная грудь, заостренная морда с черным, влажно поблескивающим носом, прикрытые пушистыми веками глаза. То ли дикий волк, то ли мирный пес, то ли…
– Степан? – спросила она.
Волк насторожил уши, открыл очи – темно-синие, злые, – поглядел так, словно сказала она что-то непотребное, гадкое, обидное.
– Да что ж ты со мною так? По сердцу ты мне, да не ланью хочу быть – волчицей твоей… – Волк не дал договорить. Он вцепился острыми зубами в ее ногу, и раздирал плоть, и клыки окрасились кровью. А крик так и не сорвался с губ Аксиньи.
Скоро настало утро, петухи заголосили, окаянные птицы, выдернули из ночной неги и ночных страхов. Строганов, синеглазый волк, ночевал в ее снах.
* * *Постная трапеза собрала всю семью за длинным столом.
Да, они могли считать себя семьей. Лукерья с дитем Пантелеймона Голубы в утробе, счастливая жена и хозяйка. Аксинья, оставшаяся в доме – то ли наложницей, то ли служанкой; довольная Нюта, дочь Степана Строганова; Потеха, старый слуга, еще не оправившийся от недуга.
– Ты, Акшинья, – хитрая душа, – щурился Потеха на знахарку. – Лиша, да не рыжая, а чернобурая. – Он звучно хлебал грибные щи, постукивал ложкой по дну миски.
– И в чем моя хитрость? – Аксинья, раскладывавшая да перекладывавшая воспоминания о ночном звере, против воли улыбнулась.
– Взяла да поштавила на ноги штарика. Мне ужо в могилу пора. Нешпроста, ой нешпроста, – шепелявил старик.
– Дед, как не знать! Радеет о тебе, мамушка, – ввернула Нютка и, поймав строгий взгляд родительницы, поперхнулась.
Сколь ни вбивала Аксинья в пустую дочкину голову правила да поучения – все без толку. «Не перебивай старших. Веди себя скромно. В церкви не разглядывай людей, молчи во время службы», – словесные ручьи текли мимо синеглазой Нютки.
– Ради Штепана штаралашь-то, ради него, ненаглядного. Вижу, ждешь его, дождатьша не можешь. Рашкажу Штепану, как исцелила ты меня, похвалю. Да рашшкажу о… – Потеха отложил ложку и уставился на Аксинью. Темное его лицо в глубоких прожилках морщин, с клочковатой седой бородой, являло собой воплощение лукавства.
– Одолели вы все меня! Мочи нет! Каждый норовит сказать. – Аксинья с грохотом отодвинула лавку, Потеха качнулся, но улыбки с лица не убрал. – Наелась досыта.
– Ты, девонька, не кричи…
– Какая тебе я девонька! Года мои велики, а ум мал. – Аксинья взяла свою миску и потянула к себе посудину Потехи.
– А ты забери. – Старик не отдавал миску и улыбался беззубым ртом, и тут же гнев Аксиньи спрятался под рукав. Как можно злиться на седого шалуна?
Лукаша, Аксинья и Нютка суетились, убирали со стола, отмывали миски да канопки[4], гремели кадушками, натирали горшки песком, по дому уже разносился тихий, вкрадчивый напев.
Вечерами в клетушке Потехи возле печи собирался люд. Аксинья и Лукаша не могли преодолеть этого зова и шли в клеть, смущались, старались не замечать запаха мужского пота и конного двора.
Семеро служилых, оставленных Строгановым для порядка и защиты при доме, не пропускали вечера, приходили послушать старика. Устраивались на лавках в темном углу, от женщин отводили глаза, но от их шепота, смеха, глубокого дыхания в доме становилось жарко. Занимались всякий своим делом: чистили оружие, строгали что-то из деревяшек, чинили сбрую.
Добрый старик, устроившись у печки, начинал говорить нараспев, и слова его лились, текли, заполняли стряпущую[5], все внимали ему, не замечая шепелявости.
– Полна земля русскаяБогатырским духомДа силушкою немереной.Ох, вы слушайте, милы детушки,Про Добрынюшку про Никитича,Как врагов своих побивал мечомДа великой своей мудростью[6].Нютка старалась быстрее управиться с бесконечной домашней работой и, открывши рот, внимала Потехе. Аксинья и Лукаша не выпускали из рук веретенца, за напевами старика не забывали о деле, а девчушка вся уходила в былины о славном богатыре.
Нютка закрывала глаза, представляла Хозяина с мечом в руках бьющимся с огромной змеей да младыми змеенышами. Видела она, как добрый конь переступает ногами и давит нечисть, как пот катится градом и цепляется за брови, как застилает боль синие глаза. Нютка слушала – словно в теплую водицу окуналась. Мать прогоняла ее в горницу за сладким ночным сном, она все противилась и просила старика: «Расскажи еще про Добрыню».
* * *– Я штарый, и то слышу. – Старик показал пальцем вниз. – Псы наши лают, чертяки. А теперь шкулят, как щенки. К чему бы?
– Голуба! – Лукаша подскочила с лавки, охнула, обхватила свой большой живот, жалобно глянула на Аксинью.
– Ты не спеши, открою ворота.
– Я раньше! – Нютка подхватила сарафан так, что замелькали ноги в шерстяных чулках. – Приехали! Наконец-то!
– Тулуп да платок накинуть не забудь!
Аксинья проворно спускалась по лестнице, слышала довольные вопли Нютки, смех Голубы, низкий голос Хозяина, разговоры служилых, лай взбудораженных псов, ржание коней – всю суету и многоголосицу, что сопровождает обычно появление ватаги.
Она шла все медленнее и хотела бы, чтоб ступеньки были неисчислимыми. Отсрочить эту встречу, обмен взглядами у мира на виду. Всем до единого – от Лукаши до служилых – любопытно, что скажет да как посмотрит Строганов на ту, что недавно поселилась в его доме, на мать ребенка, на строптивицу и греховодницу.
– Батюшка! – Нютка повисла на Степановой шее, обхватила ручонками его заметенную снегом шубу.
– Буде! – Он осторожно опустил дочку на пол, но Аксинья видела – порыв Нютки доставил ему несказанное удовольствие.
– Голуба! – Лукаша рванулась к мужу, забыв о своей тяжести.
Тот скинул с головы меховую шапку, обхватил молодую жену, захохотал, словно ретивый конь, хотел поцеловать в подставленные губы, да не решился – не пристало лобзаться на людях.
Аксинья стояла в стороне. Счастьем веяло от всех четверых: незамутненный восторг от встречи, радость без края. А она, приблудная собачонка, наблюдала за ними в тоске.
Голуба отбросил извечную боязнь «что люди скажут?», прижался губами к Лукашиному ласковому рту, обхватил женское раздавшееся тело, и все собравшиеся глядели на них – кто с ласковой улыбкой, кто с завистью.
– Нютка-утка. – Голуба отпустил счастливую жену, зажал свой широкий нос, гундосил, а хозяйская дочь смеялась. Он подмигнул Нютке, ласково провел по темным косам. Будет хорошим отцом, всякому ясно.
Степан пророкотал Лукерье: «Здравствуй, хозяйка», скинул шубу прямо на пол, не заботясь о мехе, и лишь потом увидел Аксинью. Синие глаза глядели на нее настороженно, будто в доме поселилась кикимора болотная и вышла теперь к нему с приветственным словом.
Аксинья пыталась улыбнуться, но губы, неподатливые ледышки, не слушались ее. Одного доброго слова, скупой улыбки достаточно было сейчас для нее – и расцвела бы, и подбежала ласковой, льстивой кошкой.
Но не приберег для нее Строганов добросердечия: кивнул неохотно, выглянул во двор, отдал приказания служилым, попросил Лукашу накормить всех уставших с дороги.
Знатная выдалась встреча.
* * *Аксинья пережила за свои тридцать два года многое. Устанешь перебирать в памяти – словно век целый прожила.
Яростная любовь к кузнецу Григорию, побег из отчего дома, покой в объятиях любимого мужа, попытки обмануть судьбу. Пустая утроба, что отказывалась выносить дитя. Обман, предательство мужа и крестовой[7] подруги Ульяны. Гордыня и желание отмстить, толкнувшие ее в объятия Степана, вымеска богатого рода Строгановых.
Она ощущала себя былинкой, что клонится под ветром Божьего гнева. Перешептывания за спиной, грехи и ошибки, голод и тревога за Нютку лишали ее сна и покоя. Дочь, незаконное дитя, пятно на ее подоле и счастье души, придавала ей стойкости. Былинка гнулась, да не ломалась, переживала долгие зимы и бури.
Прошлой осенью Степан Строганов, своевольный богач, решил забрать у матери Нютку, свою плоть и кровь. Многие годы он жил, не вспоминая про шальные объятия жены кузнеца, не видал дочери, а тут взял да выполнил свою угрозу.
Через мороз и метель пошла Аксинья к дочери своей, и Морена чуть не унесла ее жизнь. Смилостивился Степан, оставил ее в доме. Да только жалость его поперек горла[8].
Она кусала ни в чем не повинное одеяло, сдерживала рыдания, что рвались наружу. Безмятежная дочь сопела рядом, и последнее, чего Аксинья хотела сейчас, – разбудить Нютку и услышать: «Отчего ты заливаешься белугой?»
Навыдумывала Бог весть чего, точно неразумная девчонка. Ждала Строганова, дни перебирала, точно камешки на бусах. Грех отмаливала да с замиранием сердца ждала, позовет, соскучится по ее рукам да груди горячей.
А он и слова не молвил. Вгрызся в нее, в сны, в память дурную, мягкую, бабью, да кровь не по вкусу пришлась. Волк он и есть.
* * *– Служанки нужны. Как с такой оравой управиться? А скоро ты дитя на свет народишь, с ним возиться будешь. Лукаша! – Молодуха рассеянно кивала, звенела ключами на поясе, но думы ее летали где-то далеко, словно птахи, скрывшиеся в густом лесу.
– Аксинья, неудобно мне… Нет…
– Да что с тобой приключилось? Голуба обидел? – Аксинья выговаривала эти шутливые слова, а сама отчего-то заходилась тревогой. Давно приучилась ждать подвоха от судьбы… И от мужчин, что держат ее поводья в крепких руках.
– Нет, да нет же. – Лукаша зарделась, облизала и без того влажные сочные губы, потянулась к уху старшей подруги. – Поведай, нет ли вреда для него? – Погладила острый, выпирающий из просторной рубахи живот.
– Вред отчего? Вы с ним… – Аксиньин голос выдал улыбку. Праведница Лукаша – и такое!
– Гладил он по животу, целовал да крепко к себе прижимал, радовался. И заснул, голову на живот пристроивши. Насилу спихнула с себя. Вдруг сына раздавит!
– Лукаша, живи и радуйся каждому мигу. Добрый муж тебе достался. – Аксинья не могла не радоваться Лукашиному довольству, но бабье горькое, зловредное естество вопило от зависти.
Отчего ей не привелось увидеть радости на мужском лице? Никто не прижимал ее к себе с ласковыми словами, некому было Нютку через порог перенести, в рубашку свою обрядить[9]. Ходила Аксинья и голову склоняла от взглядов недобрых, от вины своей неизбывной. Да что вспоминать…
– А Хозяин, он пришел к тебе?
Тяготилась она вниманием Лукашиным, любопытством немереным. Давно ведомо: если есть чем похвастать, любой собеседник в радость. А печаль-кручина с радостью не гуляют, другие песни поют, хороводы не водят, на кулиги[10] с надеждой глядят: подальше от людей да поспокойней.
– Аксинья, в покои к хозяину зайди. – Голуба сказал серьезно, да что-то озорное услышала в голосе его, что-то прожурчало и утекло под камень.
Не выдержала, забежала в горницу, поправила убрус, надела бусы, Лукашин дар, да сняла, фыркнув возмущенно.
Что Степану до ее нарядов?
* * *Аксинья заглянула в покои. Все так же висели сабли на стене – душа владельца, видно, в них залетела да там и осталась. Постель перекрученная, одеяло скинуто на пол, по полу раскиданы сапоги да вещи. Вздохнула, пробурчала: «Свин», принялась подбирать рубахи, заляпанные грязью порты, кушаки – куда их столько развел? Словно щеголь московский.
Не заходила в горницу после того сражения, когда безропотно подчинялась Степану, таяла в его здоровой шуе и калечной деснице[11], а Степан покорялся ей, словно не было меж ними долгих лет разлуки.
– О чем задумалась, ведьма?
– О тебе, вестимо. – Аксинья с трудом удержала испуганный вскрик. Строганов умел застать ее врасплох.
– От тоски поди иссохла?
Она расставляла у стены сапоги: толстая свиная кожа и тонкий сафьян, юфть и бархат. Мягкие чеботы, атласные ичиги, сапоги синие, черные, белые да червленые, с высокими каблуками, подбитые серебряными гвоздиками. Работа искусная, добротная – и все в пыли да глине, без должной заботы скукожились сапоги.
– Не я ссохлась – обувка твоя. Звал меня за какой надобностью?
– Голуба не сказывал? – враз сменил тон Строганов. – Оставь ты сапоги! Потеха соберет, почистит, его дело. Слуга мой, парнишка, совсем плох. Седмицу в себя не приходит… И Третьяк тоже захворал, ногу нехристи располосовали. Поможешь?
– Все сделаю, что в моих силах, – склонила голову Аксинья. Этот разговор был ей близок и ясен. – За травами бы моими кого отправить…
– В деревню – как ее там – Елки? А отчего давно не забрала скарб свой? Знахарка без трав – что мужик без срамного уда[12]. – Мужчина хрипло засмеялся, но, поймав ее недоуменный взгляд, поумерил веселье.
Аксинья могла бы сказать: страшилась вернуться в родную деревню; не решалась попросить о том Хмура, который остался за старшего среди строгановских слуг. Но зачем душу перед волком открывать? Насмешничать начнет да стыдить.
– Съездишь, коли надобно. – Он отвернулся, всем видом показывая, что разговор окончен.
– Слушаюсь, Хозяин, – не выдержала Аксинья.
Он ничего не ответил на колкость… Или принял ее за чистую монету? Гордец, честолюбивый да чванливый, куда ему уловить потаенный смех!
– Да, забыл… За Потеху спасибо. Не зря тебя в дом взял. – Слова ударились о спину ее и улетели.
Сказал бы в глаза да улыбнулся с теплотой.
Не обучен Степан благодарить да теплом одаривать вдоволь. А ей под силу изменить того, кто обладал суровым нравом и острым языком? Кто она супротив Строганова? Не лань, не волчица… Блоха на волчьей шкуре.
2. Богатырь
В Соли Камской вовсю царила белокрылая зима: она рассыпала перья по двору, тормошила сонных псов, оседала на Нютиных ресницах и противилась весенним ветрам, налетавшим с юга.
«Отец вернулся», – билось ее сердце, губы сами собой расплывались в улыбке, мир казался радушным и благодатным. Он словно распахивал перед дочкой объятия, напевал что-то звонкое.
Отец… От Нютки так долго пряталось это чудное слово, она, сколь себя помнила, ощущала свою убогость, нецельность. Так растет порой деревце с обломанной макушкой, тянется ввысь, а невдомек ему: никогда не стать высоким да крепким, как соседние деревца.
Мать скрытничала.
Твердила, что Нюткино отчество звучит скрипуче, точно цепь на шее дворового пса: «Гр-р-ригор-р-рьевна», что родила ее от деревенского кузнеца, а все остальное – сплетни да бабьи выдумки.
Хитрая мать, знахарка, ведунья, да только не умеет врать. Малой птахой была Нютка, но чуяла подвох. Крылась в рождении ее постыдная тайна, мать неспроста звали грешницей да прелюбодейкой.
Отец внезапно появился, выскочил откуда-то, словно богатырь-спаситель. От голода уберег, жизнь их серую расцветил красками. Нюта из «той, что знахарка нагуляла» превратилась в дочь богатого купца. Да, видела, теперь глядели на нее без отвращения, с любопытством и завистью.
Обломанное деревце выпрямилось, и верхушка оказалась целехонька.

