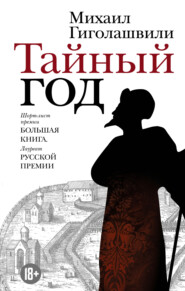скачать книгу бесплатно
– Не многовато ли, государь? Не выдюжит он, хлипок на тело. А повар отменный! Да и не жрал он той рыбы, кошка её стащила, а на Силантия сказали…
Оборвал Прошку, обмакивая кусок осетрины в гранатовую выжимку (так его научила покойная жена, черкешенка Мария Темрюковна):
– Я лучше знаю, кто что съел. Десять батогов оглоеду – и ни палкой меньше! Взяли дело приказы херить! Я вам, скотам, голытьбе фуфлыжной, покажу, как своего хозяина на позорище выставлять! Радуйтесь, что зарок дал кровищи не пускать, не то… А? Вот уже послы в своих наветах по всему миру меня ославляют! Пошёл на кухню исполнять! – Запустил в Прошку мягким чёботом (подарком карельских прихлебал). – И не смотри на меня колом, смотри россыпью, не то глаз лишу!..
Прошка исчез, а он подкрался к окну, чтобы проследить за слугой. Всё надо проверять! Вот пойдёт Прошка на кухню сказать про батоги – или обманет? Всё самому. Да что делать? Бог так возжелал, чтобы он был для своего народа и защитник, и судия, и заботливый отец, и хозяин. Скипетродержец. Веригоносец. Отреченец? В скитники собрался, а сам – белорыбицу наворачивать и братьев своих батогами потчевать! Таково-то нам Христос велел? Не по-христиански выходит, а по-вражески!
А с ним кто по-христиански обходился? После гибели батюшки и ядоубиения матушки Елены проклятые Шуйские пинками загнали Ивана Телепнева-Овчину, единственного защитника, в подвалы Разбойной избы, обвинив в том, что он якобы во время чумы не жёг дома целиком, как было Думой приказано (занедужил на дворе один – запирай ворота и жги весь двор скопом, не разбирая, больной ли, здоровый), – и этими поблажками чуме содействовал. Посадили Телепнева в каменный шкап и не давали ему пить и есть, отчего тот вскорости своим ходом и отдал Богу душу.
А мамушку-кормилицу Аграфену Челяднину грубыми ножницами обкорнали и в крестьянском возке в дальнюю морозную обитель сослали за то, что она с матушкой Еленой близка была и детей, Ивана и Юрия, только хорошему и богобоязненному учила…
Не отослали б её – так, может, и вышел бы из меня богобояз какой богомольный. А так – получайте, что заслужили, скоты боярские, столько зла сотворившие, что не рассчитаться с вами до Страшного суда, а там ужо посмотрим, чья возьмёт! Даже щенка любимого Игруню Шуйские придушили – он-де ножки у лавок грызёт и на персиянские ковры гадит. А чьи эти лавки да ковры? Ваши? Нет, мои!
И ныне покоя нет. Вся держава – на одной моей шее! Границы беречь, с врагами воевать, столы праздничные накрывать, кого куда на кормление посадить, кого отсадить, кого осадить! Да есть ли у папского посла, будь он неладен, в его московском дому тёплое отхожее место, приличествующее его персоне, тоже мне обдумывать! Сколько голова одного страстоносца всякой мирской гили и сора вместить может?
Всё, всё самому проворачивать надо! А кому поручить? Недосмотрят, недоглядят, украдут – что, не знаю? Крадун-народ! Ни топор их не устрашает, ни пряник не прельщает! И ведь немцы или шведы тоже крадут, но немец украдёт – и в дело вложит, чего-нибудь мастерить, печь-варить примется, а наш стырит – и скорее в шинок, к скоморохам, дударям, гусельникам, проблудам! Или тому же немцу вроде Штадена спустит за четверть цены в кабаке, а проспится – и давай опять тащить, что плохо и хорошо лежит!
Недаром же говорил князь-инок Вассиан, что врач должен быть без сомнений – если у больного гангрена, то ногу надо отрубать! А если начинает впадать в тлен целый народ, то гнойники надо безжалостно выжигать, а это значит хватать учинителей и зажиг, тащить на лобное место и казнить их страшными казнями, дабы у остальных волосы от страха по всему телу шевелились! Чтобы неповадно было красть и грабить, чтобы потом на плаху не всходить, где их всегда будет терпеливо поджидать хмурый топор-мамура[34 - Топор палача.], угрюм и пузат, и сестра его, петля, худа, скучна и молчалива…
И это говорил Вассиан, мухи не обидевший! А Мисаил Сукин, наоборот, говорит, что людей своих жалеть и прощать надо, – тогда и народ свою любовь выявлять будет. А мало ли он, Иван, по молодости и прощал, и жалел, и любил, когда с чаровником Алёшкой Адашевым и попом Сильвестром водился? И что получил за то якшанье? Одни измены и подлости, новгородскую ересь, козни, распри, много чего всего ещё худого, и не перечесть! Вот и взвешивай теперь на весах: прощать или карать? Как человече я всех могу понять и простить, а как царь – никого! Не имею права, так уж исстари заведено! Начнёшь прощать – тут же на голову лезут. Как человече я – тих и робок, как царь – зол и грозен, ибо по-другому правления не удержать! О Господи! Укажи, как дальше жить: душу ли свою нетленную горючим смирением спасать? Или дыбы на площадях возводить?
Скоро Прошка вернулся, прогундосил, глазной синяк щупая:
– Батоги завтра Силантию отвешают. А к тебе янычарь явилась. Саидка с баскаком Бугой. Возле ворот стоят, со стражей говорят. Стрельцы их охрану, троих нехристей в шапках с лисой, пропускать не желают.
О! Это радость! Как раз о них думал и ждал!
– Пусть в башенку идут, ждут, – приказал, а сам пошёл прятать в тайник золотую цепь Тедальди.
Вот шаги наверх, в башенку. Разговоры мимо двери.
Да, это голос баскака Буги. Этот молодой татарин явился на Москву после взятия Казани – тогда по всем улусам полетели царские грамоты, в них на службу к московскому владыке приглашалась не только казанская знать, но все подневольные чёрные ясачные люди: пусть идут к государевым бирючам на запись, не боясь ничего, а кто лихо им будет чинить, того Бог накажет; но и сами они пусть лиха не делают и исправно подати платят, а уж царь позаботится, чтобы их деньги никто не украл, чтобы пошли они на добрые дела, а не в боярские ненасытные стомахи, кои всю державу с потрохами переварят, если им слабину показать…
Буга прибился толмачом к Торговому приказу, где его и заприметили: приглянулся смелостью речи, хотя, когда толмачил, говорил по-татарски куда дольше, чем было говорено государем; когда же был спрошен об этом, то объяснил, что в глупом татарском языке нет многих слов, какие есть в великом языке россов, посему этим тёмным татарам надо всё по десять раз объяснять. «Да и отупели они совсем от ханки!» – добавил Буга в сердцах, а царь, вспомнив, что слышал недавно это слово от волхвов, спросил: «А что это такое – ханка? Говаривают, от болей зело помогает и в райские кущи переносит? Есть у вас?» Буга перевёл татарским послам, те закивали шапками с лисьими хвостами: есть, есть у нас ханка, как не быть? – и обещали принести. Среди послов был и Саид-хан. Самый молодой, он быстрее всех успел сбегать в караван-сарай и, встав перед царём на колени, подал ларец с чем-то тянучим, пахучим, тягучим. «И шикатулика пирими, велики кинясь и цар!» – «Конечно, приму, отчего не принять?»
Тотчас было сделано так, как научил Саид-хан: проглотить кусочек горького зелья и запить горячим сбитнем. И скоро боли улетучились из костей, а сила духа прибавилась сполна, да так, что он, окрылённый, поспешил в церковь, встал на клиросе и долго пел вместе с певчими, пока не поперхнулся от пересохшего, как русло в теплынь, горла. Потом ушёл к себе, где до утра лежал без рук и ног, а дух его витал в дебрях, куда раньше никогда не забредал. Под утро явилось страшное: преогромный дуб цвёл кровавыми головами, а ствол древа вырастал из чрева лежавшей навзничь в грязи матушки Елены…
Назавтра вызвал Бугу и велел забрать у послов всё зелье, а Саид-хану поручил возобновлять для него запасы ханки – для сего была выдана проходная беспошлинная грамота с царской печатью на все посты.
Саид-хан был молод и смирен, заботился только о барышах и купле молодых девок на вывоз, на государя глядел с подобострастием, говоря: всем в мире известно, что царь Иван Васильевич – самый великий, мудрый и могучий. «Что, и вашего Чингис-хана Темучжина величе и мудрее?» – хитро спрашивал, на что Саид-хан отвечал так же хитро: «Темучжин из рода Борджигинов мёртв, а ты, великий царь, жив, да продлит Алла дни твоей жизни!» – «Ваш-то Алла мои дни укоротить хотел, да не вышло, а вот наш Бог пока милует. Да я сам Чингизид через матушку Елену, коя была в сродстве с Тулунбек-ханум, а та – жена самого хана Тохтамыша! Ну, показывай, что привёз, что увезти думаешь».
И печалился, когда Саидка бесхитростно говорил, что увозить из Московии, кроме воска, пеньки и сушёной рыбы, нечего, а этого ему не надо. «Ничего, и у нас всё будет, дай Бог от бед очухаться, шведов одолеть, от немца отбиться, поляка усмирить и ваших татар, кто ещё не замирен, на место поставить. Врагов кругом прорва, завистников и нахлебников неблагодарных – тьма, со всех сторон все от державы куски оторвать норовят!»
Ну, пора.
В башенке Буга и Саид-хан топтались у стены без обувки под неприязненными взглядами охранных стрельцов. Их войлочные сапожки стояли в сторонке, возле большого мешка, перетянутого верёвками из верблюжьих хвостов, и кисы поменьше.
Башенка была разделена на две части: в одной умещён громадный стол, взятый в Новгороде вместе с другой утварью, громоздкие стулья с длинными спинками и дубовое разлапистое резное кресло – его матушка Елена привезла с собой из Литвы. В другой части на толстом ковре набросаны подушки-мутаки, лёгкие стёганые матрасы. Когда на поклон являлись фряги, то бывали приняты за столом, когда с востока – на полу, на подушках возле круглого низкого столика-дастархана.
Статный, черноусый, с замысловатой бородкой и бараньими глазами, Саид-хан в своём белоснежном халате с золотым шитьём смотрелся белой вороной среди серых каменных закопчённых стен. И небо за бойницами тоже было сине-серо, в изрезах чёрных туч.
«Как же так? – смутно мелькнуло в голове, когда неслышно вошёл в башенку. – Только азиатец тут светел – а мы темны, выходит?»
Татары бросились на колени, схватили по руке, поцеловали.
Разрешил им сесть на подушки, продолжая рассматривать халат Саид-хана, и даже потёр ткань пальцами:
– Ткань знатная, лепая, красивая. Откуда? Камка, что ли?
Саид-хан тут же стал стягивать халат, зная порядок: если царь что-нибудь хвалит или просто смотрит на вещь – сразу снимать, отдавать, дарить.
Отмахнулся:
– Не надо. Шёлк китайский хорош! Играет! – Знал толк в красивых вещах: в рундуках и сундуках – прорва шитых окатным жемчугом кафтанов, ферязей с золотыми набойками, горностаевых ермолок, мурмолок на норке, дорогих шуб, бахил – хотя сам ходил в монашеской рясе, коей вполне хватает грешное тело утеплить.
Саид-хан с новыми поклонами ответил:
– В Кашгари халата покупила…
Засмеялся:
– Э, да ты никак по-нашему не научишься, Саидка! Посадить тебя в яму к колодникам – живо балакать станешь! В темнице ученье впрок идёт, особливо ежели палкой подкреплять… А? Хочешь в застенок? – Видя, что Саид-хан от страха изменился в лице, успокоил: – Это так, для смеха говорю. Расскажи, где был, что привёз? Ханка где?
Татары подтянули мешок, стали развязывать тугие верёвки. Обнаружился – в белом чистом плате – шар смолы с младенческую голову. Шар был тёмен, ровен, блестящ – его явно долго катали чьи-то заботливые руки, пока не довели до шелковистой гладкости.
Оживившись и втягивая большими ноздрями хищного носа пахучий терпкий запах, ткнул шар пальцем:
– Вот так колобок!
Шар покатился по ковру, Буга, поймав его, бережно положил на низкий столик.
Запах возбудил. Сковырнул длинным ногтем мизинца кусочек и отправил в рот (Буга бросился подавать настой иван-чая из заварочника, поставленного Прошкой на две свечи, чтобы не остывал).
– Горький… – поморщился, катая шар по столу и приговаривая: – Колобок мой, колобок… без тебя я изнемог… ты лечитель всех тревог… счастья исток… блаженства глоток… радости сок…
– Чем горче – тем лучше, государь, – поспешил напомнить Буга, разливая настой по пиалам.
– Без тебя знаю. А ты, Саидка, получишь за него, как всегда, пяток соболей и рубль. Иди завтра с Бугой в Пушной, бери. – Отмахнувшись от очередного поцелуя руки, отхлебнул из пиалы. – Где быть изволил? Что повидал? – Услышав, что Саид-хан ездил по торговым делам в Китай и заехал в Кашгар за ханкой и тканями, спросил: – Ханка разве не у тебя на Алтае растёт? Нет? А где?
Саид-хан объяснил, что этот опий собран в Белуджистане, в вилайете Гильменд, у пуштунов, где родится наилучший в мире мак и откуда идёт караванами, морем и сушей в разные стороны:
– А моя зинакоми купца мине в Кашгари давал харош тафар.
Подбросив шар на ладони, оценил:
– Фунта три, не меньше…
Саид согласился:
– Да, китайц весил, сиказал – тиридцать шесть лян вес…
Пересчитав в уме, подтвердил:
– По-вашему, по-алтайски, тридцать шесть лян – это одна десятая китайского кхала, – чем поразил Саид-хана: «Откуда царь всё знает?». – Да уж знаю… Я всё должен знать. Яхши?
Татары зацокали, а он, ощущая радостное расслабление в руках и ногах, а в душе – лучики беспричинного веселья, отщипнул от шара ещё немного и запил настоем, интересуясь, как живут люди в этом хвалимом Кашгаре:
– Я-то сам никуда за пределы моего царства не хожу, негоже мне по соседям шастать. А каково живут люди в других царствах – любопытно знать. А ты завертай его обратно! – выкатил шар Буге в руки.
Баскак начал заворачивать опий в тряпку. Остановил его, достал из чёбота нож и, откромсав кусок от ханки и спрятав его в тайный корманец, сам раскатал зелье в ровный шелковистый шар, отчего руки у него стали пахнуть резко и буйно-пряно, как поле в сенокос. Шар был завёрнут в плат и спрятан в мешок.
Когда все отпили из пиал, Саид-хан поведал, что шёл в Кашгар через землю Бадахшан, где много городов и сёл, народ храбрый, молится Мохаммаду; потом поднялся в горы, лучшие в мире пастбища видел: самая худая скотина жиреет там в десять дней, и диких зверей множество, а более всего там больших баранов, у коих рога толщиной в три ладони, из рогов тех пастухи выделывают чаши и кубки, из них едят и пьют. А птиц нет совсем оттого, что высоко и холодно. И от мороза огонь не того цвета, как в других местах…
– Каков же он?
– А сини, как неби.
Потом Саид-хан шёл через земли, где людей приносят в жертву идолам, а жители злы и дики: кроме лука, стрел и каменных ножей ничего не знают, но очень сноровисты, живут охотою и рыбой, одеваются в звериные кожи и на пардов с одним ножом ходят. А Кашгар – большой и знатный город, народ там торговый, сады есть и виноградники, и хлопок родится, товара на базарах много, и ханка дешева и убойна, а бабы все распущенны и продажны – за одну деньгу все с тобой ложатся, и делай с ними что хочешь. И много голых людей по улицам валяется, милостыню просят или так лежат, без дела. И душнота стоит неимоверная от жары. А народ тамошний хоть и богат, но скуп – ест и пьёт скверно.
Это развеселило: богатые – а пьют и едят скверно! Зачем тогда богатство? С собой не унесёшь, в последней рубахе кишеней[35 - Навесной карман.] нету!
Вспомнил:
– А то, что люди голы по улицам валяются, так это у них в жарких странах обычай таков! Ещё Афонька Никитин, что при деде Иване в Индию угодил, сказывал, что в Индии простой люд наг ходит, волосы в косу заплетены, только у тамошнего князя одна фата на голове, а другая на срамном месте. А простое бабьё голым ходит, и гулящих девок много, и они тоже зело дёшевы: за одну деньгу – хороша будет, за две – очень хороша и свежа, а за три – красавку или чёрного-пречёрного мальчика получишь… Где жарко – там дорога до греха коротка. Протяни руку – и наткнёшься на нагую плоть, а бесям только того и надобно, они любят перси и ляжки уминать. А с нашей барыни пока шесть панёв стащишь и пять нагольных рубах задерёшь – умаешься ещё до главного дела да плюнешь!
Саид-хан вытащил из-за пазухи свёрток:
– Шень-жень…
Поворошил сухие крепкие отростки:
– А, бабья радость… Что хочешь за него?
Саид-хан что-то зашептал Буге на ухо.
– Что? Что?
Буга ответил:
– Саид говорит, что всю жизнь будет возить тебе без мзды и корысти всё, что пожелаешь, только соизволь ему малую, самую малую деревеньку с самой малой толикой людишек подарить, тут где-нибудь, под Москвой, а то когда он приходит с караваном, то и сапоги некому стянуть…
Усмехнулся:
– Он же к тебе, Буга, в гости приходит? У тебя что, слуг нет, чтоб с него сапоги стягивать? Ишь чего захотел! В обмен на ханку – живых людей заполучить? Губа не дура!
Саид-хан вдруг засуетился, развязал кожаную кису и извлёк оттуда увесистый ларь в две ладони толщиной. В нём – какие-то разноцветные бруски: серые в красную крапину, жёлтые с черными выпуклями, прослойчатые, узорные:
– Эта, фелики касутар, разни персидки силадость… Сами лючи в мир… В лёде вёз, лёду менял…
Отщипнул от печёного:
– Аха-ха, ну, сладенькое я люблю, да зубов уже нет. – А Саид-хан, указывая поочерёдно на куски, объяснял: вот пахлава с орешками и кардамоном, это яр-дар-бехешт из рисовой муки и розовой воды, а тут тахинная халва из сахара, шафрана, фисташек и миндаля.
От съеденной пахлавы ханка зашевелилась в животе. Пошло нутряное разжжение, благостные струи стали омывать тело. Отколупнул ещё от печения, забросил ощипки в рот:
– Рахмат, катта рахмат, лады. Скажи ему, скоро буду перебирать уезды, присмотрю для него в подарочек сельцо какое-никакое… А вот пусть он лучше скажет, как дошёл сюда, когда Волга перекрыта из-за холеры и всюду мои дозоры стоят? – вспомнил вдруг.
Саид-хан смутился, стал что-то шептать Буге, уставившись встревоженными глазами тому в ухо.
Услышав знакомое слово, вцепился в Бугу:
– Что? Он сказал – бакшиш? Бакшиш?
Буга подтвердил:
– Да, государь, он давал бакшиш – стража брала и пропускала его… Говорит, что за бакшиш в Московии куда угодно пройти можно…
Благости как не бывало. Вот оно, проклятое несчастье! Курочка по зёрнышку клюёт, а весь двор в помёте! Зачем Саидка давал – понятно: хотел пройти, а вот зачем стража брала, когда им известно, какие кары могут их настичь? Эту ржу надо корчевать! Но как? Что толку в указах, если они не исполняются, а людишки только о брашне, барыше да бакшише думают?
Гнев стал заливать изнутри. Ком чёрной ярости толчками просился наружу. Взбудоражившись и вскочив на ноги, велел страже приволочь стрелецкого воеводу Илию Зазнобина – этот пёс как раз в крепость с отчётом явился, главный ответчик за сторожевые дозоры на дорогах, на кои помесячно из казны большие деньги выдаются. А пока ждал, то ходил, как зверь в клетке, ступая мягко, твёрдо, упористо (от ханки все боли прошли), мимо оробевших татар, туда и обратно, а те уже не рады были, что сболтнули про бакшиш, рассердив этим государя.
Когда пухлый, весь какой-то жухлый и тухлый Зазнобин с сальным от еды ртом был доставлен из трапезной, его встретили удары посоха:
– Так ты, свинья злосмрадная, мои приказы блюдёшь? Так от холеры народ бережёшь? У тебя под носом люди с верблюдами по закрытым путям шныряют, бакшиш давая, а тебе хоть бы хны! Жрёшь, аж за ушами трещит! Мастер Барма за мзду проходит! Рыцаря Хайнриха за полушку пустили! Этот целый караван привёл! А если лазутчики придут меня убивать – их тоже пустишь за тридцать сребреников, ирод иудомордый? Разожрался! Стомах в три обхвата, зараза холерная! Куда от моего гнева спрячешься? Из-под земли достану, а потом, после мук, обратно закопаю! Эйя! Взбутотенить его как следует! – крикнул он охранникам.
Те сплеча начали оглаживать виновного плётками.
Зазнобин повалился на пол, заверещал по-бабьи:
– Спаси тя Бог за науку! Учи нас, неразумных! Спаси Бог за учение, государь!
Попинав воеводу и приказав отправить его в подвалы до разбора, немного попритих, но вырвал у Буги пиалу и выплеснул жидкость на Зазнобина:
– Проклятники, изменники! Никак их не обуздать! А всё вы, татаре, виноваты! После вас народ вороват и мздоимен стал! Захрума на вас, проклятых нехристей! – Воздел руки: – О Господи! С Божьей помощью от татар избавились, а вот от самих себя избавиться не в силах! Из-под татарской палки под свою дубину угодили! И вот как, скажи мне, хан, такими-то людьми править?
– Я – чито? Тих-тиха Алтай сишу… – начал оправдываться оробевший донельзя Саид-хан.
Не слушая, выкрикивал своё:
– Всё делаю для них, дни и ночи не сплю, а с них как с гуся вода! Мало, видать, кнутом потчую! Небось при татарах народ смирен был, на чужое рот не разевал! Боялся воровать – у татар разговор короткий: украл – аркан тебе на шею, и на дерево пожалуй! О Господи! Уж мозолина от молитв взошла, а им всё нипочём, кознодеям! – хлопнул себя по лбу, где темнела шишка, набитая при молениях. – Ох, тяжко! Безысходно!
Татары сидели, не смея поднять глаз.
А ему стало жарко. И начало казаться, что у гостей пованивают ноги, чего он терпеть не мог, и даже отправил из-за этого (но под другим предлогом) в монастырь одного из своих двоюродных дядьёв, любившего повторять вслед за татарами: «Кто смывает с себя грязь – тот смывает с себя счастье».
Решил отпустить татар, сказав, чтобы Саид-хан пришёл к нему через пару дней на беседу. Не успели они влезть в свою обувку, как из-за дверей раздался Прошкин голос:
– Государь, вызванного брита Глетчера привезли.