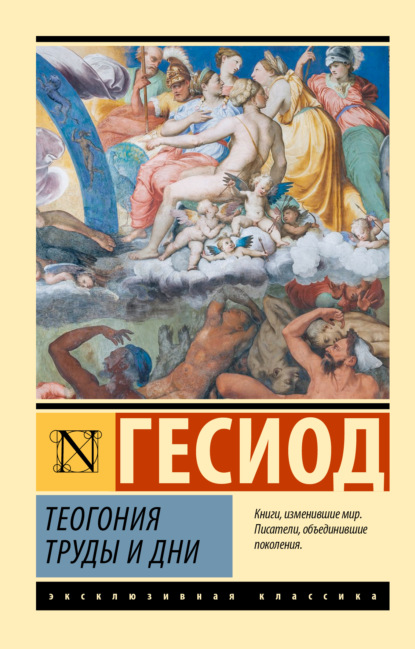
Полная версия:
Теогония. Труды и дни
119
Πόλυδερϰᾑς означает «многовидящий», но и «дающий возможность все видеть или различать»; multa-cernens, переводит Лерс. (Г.К.)
120
Ст. 755–757 считаются вставкой, что подтверждается последующими стихами. (Г.К.)
121
Океаном греки времен Гесиода называли мифическую реку, обтекающую землю. (В.В.)
122
По-видимому, Стикс, дочь и рукав Океана, есть десятая часть Океана. Но, быть может, что только десятая часть самой Стикс составляет тот источник, который есть горе богов. Стикс, по указанию Павсания (VIII, «Аркадия», гл. 17 и 18), есть река Аркадии близ развалин г. Нонакриса (ср. еще Герод., VI, 74). Воды этой реки, начинающейся ниспадающим со скалы источником, считались смертельными. И ныне воду реки Мавро-Нерия, или Драко-Нерия («черные воды» или «страшные воды»), туземцы Аркадии считают опасной и вредной для питья. Павсаний еще указывает, что Гомер в «Илиаде», XV, 36, 37, по-видимому, описы- вал источник Аркадии, ходя по «Ил.», VIII, 366, воды Стикса находятся в подземном мире в Гадесе. (Г.К.)
123
По-видимому, возлияние делается водами Стикса. (Г.К.)
124
Большой медленный год есть восьмилетний цикл (9-летний лунный), еннеатерис, έννεαὲτηρις. Этот большой год вошел в обычай у греков для соглашения лунного года с солнечным; он заключал в себе 99 лунных месяцев, или 2922 дня. В эти 8 лет прибавляли один раз три добавочных месяца, каждый по 30 дней. (Г.К.)
125
Весьма трудно сказать, в ст. 801 и 803 разумеются ли большие года, или же со ст. 801 идет речь об обыкновенных. Кажется, вернее последнее. (Г.К.)
126
Стихи 807–810 буквально те же, что ст. 736–739. (Г.К.)
127
По ст. 851 Титаны живут с Кроносом под Тартаром, поэтому здесь выражение «Хаос» равносильно «Тартару». (Г.К.)
128
Т. е. ближе к богам. От низу к верху далее живут Коттос и Гиес, стражи Титанов, отделенные от них хаотическим мраком. Самые же стражи живут не в пределах мрака, а на основаниях Океана (ст. 816), т. е., вероятно, словами «Одиссеи», IV, 563–568, где Зефир, посылаемый Океаном, идет далеко за пределами земли (где находятся и Елисейские поля Гомера). (Г.К.)
129
Ясно, что Тифоей – олицетворение землетрясения, сопровождаемого вулканическим извержением: последнее – проявление титанических природных сил, совершавших перевороты. После победы над ними начинается покойное течение жизни природы (ср. Maury Rel., I, 374). (Г.К.)
130
Подразумевается из всех веществ, или предметов, или металлов. Следующие два стиха, вероятно, интерполяция. (Г.К.)
131
Заметим, что стих 868 есть продолжение мысли стиха 858 и, по всей вероятности, в первоначальном сказании следовал непосредственно за ним.
О Тифоне и Тифоее ср. сказание Аполлодора, I, 6, § 3. У него есть подробность, вероятно, позднейшего происхождения, что боги, испуганные появлением этого чудовища, бросавшего кверху камни (указание на вулканический миф), бежали в Египет и взяли на себя образ животных. Ср. Плутарха, de Iside, § 72. Далее рассказывается, что сначала Тифон одолел Зевса, вырвал у него мускулы и бросил его в пещеру Киликии, поставив над ним стражем дракона женского пола Дельфину. Освободили Зевса два сына его Гермес и Египан и излечили его. Тогда Зевс, снова вооруженный громовыми стрелами, преследовал Тифона до горы Низы, где он вкусил ядовитых плодов и бежал от Зевса во Фракию. Здесь он изрыгнул много крови, отчего и названа гора Гэмус горою крови, потом он бежал далее, в Сицилию, и здесь Зевс бросил на него гору Этну, под которой он и лежит доселе.
По указанию Аполлодора, Тифоей рожден Геей в Киликии. Что Тифоей окончательно погребен под Этной в Сицилии – по-видимому, было всеобще принятым приданием, хотя Гесиод его еще не знает. Так, у Эсхила Тифоей лежит под Этной («Прометей», ст. 363). У Вергилия («Энеида», III, 578) то же сказание перешло на Энкелада, одного из Гигантов. (Г.К.)
132
Схолиаст (древний комментатор) рассказывает: «Как говорят, Метида обладала такой силой, что могла превращаться во что хотела. Зевс обманул ее и, уговорив сделаться маленькою, проглотил». Таким образом, Метида – Премудрость – оказалась внутри самого Зевса. Богиня была в это время беременна Афиною, которая, таким образом, тоже оказалась во чреве Зевса. После этого Зевс родил ее из своей головы (см. ниже, ст. 924). (В.В.)
Зевсу, как видно из следующих стихов (891–900), также угрожало его потомство, как Урану и Кроносу; но он предупреждает бедствие, грозящее ему, тем, что поглощает мудрость и таким образом становится ее единственным источником и распределителем. Другими словами, в гесиодической «Теогонии», которая, как и гомерическая, имела уже весьма сильный философский оттенок, при значительной утрате наивных верований младенческих народов, религиозное резонерство видит в Зевсе представителя современного положения и порядка мира и верховного правителя, который сам становится во главе движения к усовершенствованию, чтобы не остаться вне и сзади этого движения. В этом смысле Зевс есть представитель и воплощение эллинского духа; он грек, который собирает в свою теогонию все знания и таинственные верования окружающих его народов и становится во главе умственного и религиозного движения, не игнорируя ничего, принадлежащего другим расам, но придавая всему греческую окраску и находя всем место в общей системе своего мировоззрения. Развитие мысли, что Зевс, проглотив Метиду, сделался источником всякого усовершенствования, мы видим в перечислении всех последующих супруг его, от коих родятся все блага и все искусства, радующие человечество, но также и божества, карающие за нарушение порядка. (Г.К.)
133
Тритогенея (на Тритоне рожденная) есть прозвище Афины, которого происхождение объясняется различно; некоторые полагают, что прозвище это происходит от реки и озера Тритонис на северном берегу Африки (около залива М. Сирт), где, по преданию, воспитывалась Афина Паллада, ср. Геродота, IV, 180, Аполлодора, III, 12, § 3, и Павсания, I, 14. Другие же, на что указывает и Павсаний («Беотия», IX, 33 in fine), полагают, что имя Тритогенеи произошло от маленького ручейка Тритона в Беотии, где также помещали рождение и воспитание богини. Грамматики же (см. Smith’s classic dict. ad. voc. Tritogenia) производили это имя от слова τριτώ, которое на наречии одного из племен Фессалии, Атаманов (живших на юге от Эпира и на западе от Пинда), означало голову, напоминая легенду о рождении Афины из головы Зевса. (Г.К.)
134
Фемида – правосудие. Три ее дочери Оры (времена года) носят характерные имена: Евномия (доброзаконие), Дике (справедливость) и Ирена (мир). (В.В.)
135
Это одно из мест, доказывающих, что автор «Теогонии» пользовался разными легендарными источниками, не всегда между собою согласными. По ст. 214 и 217 Мойры (Парки) есть дочери Ночи, а не Фемиды, а имена стиха 905 принадлежат Керам, а не Мойрам (ст. 218). Ст. 906 соответствует ст. 219. Надо заметить, что от ночи в указанном выше месте родились все божества таинственного неопределенного характера, имеющие влияние на судьбы человека. Ночь как бы есть символ неизвестного. Здесь Мойры выступают яснее в царстве Зевса-порядка, как дочери правды, справедливости. Керы были, по-видимому, неразвитое чувство правды, ведущее к отмщению, – это тоже стремление к правде, но диких племен. (Г.К.)
136
Деметра по ст. 454 – дочь Кроноса и Реи, но в сущности это та же мать-земля Гея, в другом же только образе воззрения. Гея есть мать всех страшных сил природы, производящих потрясения; она возникла одновременно с хаосом (ст. 117), она общая всем матерь, как почва, она и общая кормилица и называется Деметра, которой личность вполне, однако, выделилась в особый образ. И грамматики признают, что γῆ-µήτηρ и δῆ-µὴτηρ совершенно тождественны. (Г.К.)
137
См. ст. 53–60 «Теогонии». (Г.К.)
138
Геба, называемая у римлян Juventas, олицетворяла молодость и красоту, она подавала богам нектар и амврозию, доколе не была заменена Ганимедом. Геба чисто эллинского происхождения, Ганимед имеет азиатскую окраску: оба эти мифа символизируют обаяние, производимое молодостью и красотою. Заметим, что у Гесиода нет еще Ганимеда, но Гомер его уже знает («Илиада», XX, 234).
Арей признается сыном Зевса, несмотря на его чуждое происхождение (ср. Gladstone’s Juv. Mundi, p. 298). Мы думаем, что этот по происхождению фракийский и скифский бог (ср. Герод., IV, 59 и прим. in loco Раулинсона) принят ведическими ариями в их Пантеон и отождествлен с ведическими Марутами-бурями, как указывает по поводу имени Арея и Марса Макс Мюллер (Lect. on the Sc. of Language, 7 ed., vol. II, pp. 357–358).
Илифия у Гомера («Илиада», XI, 270) является во множественном числе как дочери Геры. Это та же Гера, помощница рождению, как замечает Maury, Rel., I, 269. Павсаний в IX книге («Беотия», гл. 27, § 2) дает любопытное указание, что Олен, древнейший из эллинских певцов в одном гимне, обращенном к Илифии, называет ее матерью Эроса. У Павсания есть еще указание (I, 18, § 5), что по аттической легенде Илифия пришла из страны гипербореев, что указывает, вероятно, на ведическое происхождение, ибо таков характер и певца Олена. (Г.К.)
139
Т. е. Афродита, называемая Киферея, или Цитерея – от имени острова Цитеры: Cytherea. (Г.К.)
140
Рождение Гермеса от Майи и первые подвиги его жизни (воровство быков у Аполлона) см. Апол., III, 10, § 2. Гермес есть умножитель благ («Одисс.», VIII, 335) всякими законными и незаконными путями. По происхождению своему по матери от Атласа он, вероятно, имеет связь с финикийскими и африканскими божествами. Так думает и Гладстон (Juv. Mundi, p. 301), который считает его финикийским божеством. В этом есть одно затруднение, а именно что в финикийской мифологии нет лица, соответствующего Гермесу. Может быть, Гермес есть миф эллинский, но символизирующий финикийцев или их торговлю и грабежи. Крылья на ногах Гермеса почти несомненно корабельные паруса. Гермес – торговец, лгун, вор и посланник. (Г.К.)
141
Сказание о Дионисии (Вакхе), о рождении его, путешествиях, борьбе за установление культа, сошествии в преисподнюю для вывода своей матери Семелы и помещении ее в число богов под именем Тионе и потом дальнейшем развитии культа Дионисия в его мистериях, слившихся с орфическими, представляет большие трудности. Основная легенда, что дочь Кадма Семела была прельщена Зевсом, просила его явиться в славе, была сожжена и что ребенок Дионисий был выхвачен Зевсом, выношен им в лядвее и воспитан на г. Низе – рассказана многими мифографами: у Аполлодора, III, гл. 4 и 5, у Диодора Силицийского, III, 64–65, 67–70, IV, 2–6; у Овидия «Превр.», II, §§ 3, 6, и в гомерическом гимне Дионисию; вариант у Павсания, III, 24, § 3 и др. Борьба при установлении культа Дионисия также и у трагиков – у Эсхила в потерянной трилогии «Ликургии», из которой у нас есть отрывок трагедии «Едоняне», в «Вакханках» Еврипида и в разных намеках на это событие. Гомер знает эту легенду (см. «Илиаду», VI, 130–140; XIV, 325). По-видимому, происхождение Дионисия как бога опьянения – ведическое. Он – сома или даже тайный огонь Агни, скрывающийся в соме. Финикийцами введенный напиток вино заменяет ведическим ариям в Греции сому; виноделие путем пересадки виноградной лозы из М. Азии распространяется во Фракии, Фессалии, Беотии, но встречает сопротивление от туземцев. Но Дионисий, сын ведического Зевса и кадмеянки, устанавливает свой культ и принимает лозу под свое покровительство. (Г.К.)
142
Впоследствии, при развитии культа подземного Дионисия, он стал сближаться и с Аидом, и с Адонисом, а Ариадна с Корой-Персефоной (см. заметки Ленормана об этом культе в Южной Италии и в Риме в La grande Grèce, Paris, 1881, vol. I, pp. 395–424). В древнейшей мифологии только имя Миноса, отца супруги Дионисия, сближало несколько Дионисия с миром теней, но как у Гесиода, так и у его дополнителя Аполлодора, Ариадна есть дочь критского царя Миноса II, внука первого Миноса (подземного судьи), и поэтому имеет совершенно человеческий характер (ср. Аполлод., III, 1, § 2). Мы указываем на это, потому что в древнейшей мифологии нет тени намека на ту роль хтонических богов, которую Дионисий и Ариадна играли в орфических мистериях и дионисских оргиях. (Г.К.)
143
Сравнивая это место со стихами 409–410, мы заметим опять сочетание имен Перс, Персея с Солнцем под различными его именами. Кирка, или в лат. форме Цирцея, известная чаровательница в «Одиссее» (п. X); Эет же, царь Колхиды, был отцом чаровательницы Медеи. Мы находимся в среде восточных мифов народа или народов, преданных магии и волхованию. (Г.К.)
144
Стих 964 явно позднейшая вставка. «Теогония», насколько нам кажется, должна была кончаться на стихе 963, на прощании с богами, или же, вернее, с Музами, на основании ст. 114 и 34 «Теогонии». Далее идет сказание о смертных, которые сочетались с богинями, этот список должен был дополняться смертными женщинами, с которыми приближались боги, на что и указывают два последние стиха 1021 и 1022. Но последний список, известный под именем ϰατάλογος γυναιϰῶν, потерян. Из него остались, по всей вероятности, те 56 стихов, которыми начинается «Щит Геракла» и в котором рассказано зачатие Геракла Алкменою от Зевса. Список мужей и жен, совокупившихся с богинями и богами, есть полумифический переход к истории, ибо плодом союзов являются все герои древности. (Г.К.)
145
Плутос, или Плутон (Πλοῦτος, Πλοὺτων) – даятель богатства. Полагают, что у греков это было первое имя Аида, который, как бог подземного мира (мира металлов и мира прозябания зерна), и был первым источником всякого богатства. Мы видим, однако же, у Гесиода полное отделение личности Плутоса от Аида. Позже (напр. у Аристофана, комед. Πλοῦτος) этот божок представляется слепым. У латинян Аид носил всегда название Pluto (onis), а бог богатства назывался Plutos. (Не смешивать Иасиона, отца Плутоса, с Ясоном Аргонавтом. Иасион в некоторых преданиях – брат Дардана и учредитель мистерий в Самофракии, сын Зевса и Электры. Ср. Аполлод., III, 12, § 1.) (Г.К.)
146
Ст. 979–983 есть, очевидно, вставка, что доказывается, во-первых, тем, что это есть повторение сказания, упомянутого выше в ст. 289–294, и во-вторых, что сочетание дочери Океана Каллирое с Хрисаором едва ли может войти в ряд сказаний о сочетании богинь со смертными мужами, так как Хрисаор (ст. 280) вместе с Пегасом суть мифические существа, появившиеся из крови Медузы. (Г.К.)
147
Эос (Aurora), по сказанию Аполлодора, III, 12, § 4, влюбилась в брата Приама Троянского Титона, сына Лаомедона, внука Илуса, и, похитив его из Илума, перенесла в Эфиопию, где родила от него Мемнона и Эмафиона. Сказание о Титоне говорит еще, что он выпросил себе бессмертие, но забыл при этом попросить вечную молодость и в дряхлости проводил тяжелые дни, доколе Эос не превратила его в кузнечика (Tzetzes ad Licophron: в ссылке Hederich’s Lex. Myphologicum). Личность Мемнона чрезвычайно загадочна: по Геродоту, IV, 54, и Диодору, II, 22, он строитель города Сузы в Сузиане (или Елиаме) на востоке от Тигра. Павсаний, рассказывая о картинах в здании, называемом Лесхи в Дельфах («Фокида», кн. I, 31), говорит о Мемноне, пришедшем на помощь Трое (указание об этом вскользь в «Одиссее», XI, 522), причем настойчиво указывает, что он пришел из «персидской» Сузы, а не из Эфиопии. Обсуждая вообще вопрос об имени Эфиопия, Джорджс Раулинсон (Anc Monarchies, v. I, pp. 48 sqq. ed of 1871), основываясь притом на Геродоте, III, 94, VII, 70, говорящем об «азиатских эфиопах», утверждает, что эфиопское царство Мемнона, сына «утренней зари», конечно, надо искать на востоке от Греции, а именно в Южной Азии между устьем Инда и Персидским заливом. Мы прибавим еще, что перенесение имени Мемнона в африканскую Эфиопию и потом на статую Аменхотепа III близ египетских Фив есть позднейшая выдумка греков.
Об Эмафионе весьма мало сказаний. Мы читаем только у Аполлодора, III, 5, § 11, что Эмафион, сын Титона, убит Гераклом в Аравии. Но все это место у Аполлодора темно в географическом отношении и, по-видимому, испорчено. У Диодора же (IV, 27) Геракл убивает Эмафиона в африканской Эфиопии, пройдя туда из Египта. (Г.К.)
148
Αίήτες, царь Колхиды, отец Медеи, которую увез Ясон, предводитель Аргонавтов. Сам же Эет был сын Солнца и Персеи по ст. 956–957 «Теогонии». (Г.К.)
149
Эсон, Αἴσων, был сын Кретея; Ясон, предводитель Аргонавтов, был сын Эсона, который считался основателем города Иолка в Фессалии, или, точнее, в Магнезии, на полуострове на берегу залива Пегаса, который ныне называется Воло. (Г.К.)
150
Пелий, царь Иолка, пошел на престол после смерти Кретея насилием. Чтобы избавиться от Язона, который был ему подозрителен вследствие пророчества, он послал его в Колхиду за золотым руном. По возвращении Ясона из похода Пелий был убит собственными дочерями, которых Медея обманула, обещав им воскресенье отца в обновленном виде. Ср. Аполлодора, I. cit; Родия, III, 1135, IV, 242; Овидия, VII, и о смерти Пелия – Павсания, VIII, 11. (Г.К.)
151
Филирид Харон – Харон, сын Филиры, мудрый кентавр, воспитавший многих героев. (В.В.)
Он считался добродетельнейшим и мудрейшим из кентавров. Жил Харон на горе Пелионе в Фессалии и воспитывал многих из героев древности: Пелея, Аристея, Ахилла, Диомеда и др. Раненный нечаянно Гераклом, другом его, стрелой, напитанной ядом лернейской Гидры, Харон мучился и хотел умереть, но не мог, потому что он был бессмертен. Лишь отдав свое бессмертие в выкуп за Прометея (см. Аполлод., II, 5, § 4), он умер, после чего был помещен в число созвездий (Стрельцом) на небо. Харон – миф полуастрономический и полуэтнический. Как миф астрономический, он пришел, может быть, с востока, из Халдеи (Вавилона), где зодиакальный знак стрельца давно был известен. Харон очень напоминает Хеабани Ивдубаровской эпопеи и, вероятно, также соответствует Наргалу (ср. Chlad Genesis в пер. Делича, с. 171, 239). Но у греков миф этот имел совершенно иной характер. Кентавры, конечно, были полукочевые туземцы, фессалийские всадники, между которыми были вещие знахари, к которым принадлежал Харон, воплощавший в себе тайные знания своего народа. Эти врачи и знахари были учителями греков в деле врачевства и магии (ср. Maury, Hist. des. Rel., II, 503). Умирая, они передают свое бессмертное искусство Прометею, который в своей мировой с Зевсом знаменует слияние туземных племен с ведическими греками. (Г.К.)
152
Нерей – см. выше ст. 233 и примечание; Фок, или Фокос, Φῶϰος, – сын Эака, убит братом своим Пелеем, отцом Ахиллеса; сказание см. Аполлод., III, 12, § 6. (Г.К.)
153
Эак был сын Зевса и Эгины, дочери Азопа (Аполлод., III, 12, § 6), и отец Пелея, Теламона и Фока. Ахилл (от Пелея и Фетиды) был внук его. (Г.К.)
154
Κυθἐρεια – прозвище Афродиты. (Г.К.)
155
Гора Ида, ныне Кас-Даг в Малой Азии, составляла когда-то южную границу Троады. На этой горе происходил и суд Париса, и похищение Ганимеда. (Г.К.)
156
Кирка, или Цирцея, чаровательница, дочь Гелиоса (ст. 957, а также «Одиссея», X, 135–139). Жила она, как полагают, на островах Тирренского моря. Но заметим, что в ст. 190 десятой песни «Одиссеи» Гомер сам указывает на неопределенность положения острова. (Г.К.)
157
…на далеких святых островах… – Гесиод, очевидно, представлял себе Италию островом. (В.В.)
158
…над тирренцами властвуют… – Впоследствии греки называли тирренцами этрусков, но здесь имеются в виду вообще жители Италии. (В.В.)
159
Эти стихи соединяли «Теогонию» с сохранившейся лишь в отрывках поэмой «Каталог женщин», которая излагала генеалогию родоначальников знатных греческих родов, считавших, что они происходят от союза смертных женщин с богами. (В.В.)
160
Павсаний (IX, Беотия) говорит, что беотийцы, живущие около Геликона, утверждали на основании предания, что единственное сочинение Гесиона есть «Труды и дни» и что это сочинение начинается лишь там, где начинается рассказ о даймонах распри. Они показывали Павсанию свинцовую доску, весьма попорченную временем, на которой была вырезана поэма «Труды и дни». Павсаний признаёт, однако, и другое воззрение, по которому Гесиоду принадлежат «Теогония» и другие сочинения. Здесь мы хотим только указать, что первые десять стихов, по мнению некоторых, не принадлежат Гесиоду.
В переводе Г. К. Властова поэма называется «Работы и дни». В тексте комментариев заменено название на актуальное для данного издания для удобства читателя. – Примеч. ред.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



