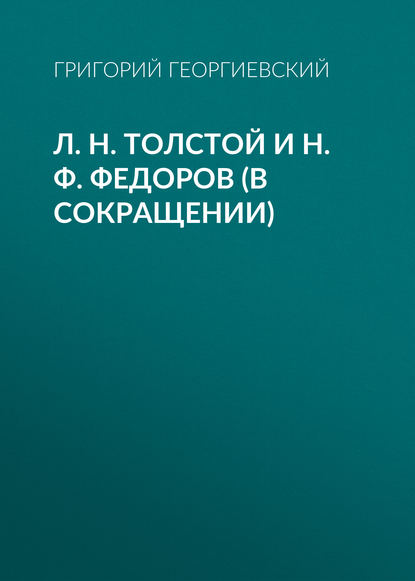 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Л. H. Толстой и Н. Ф. Федоров (в сокращении)
– Мнимое примирение увековечивает вражду, скрывая ее. Такое учение и проповедует Толстой: поссорившись накануне, он идет мириться на другой день; он не только не предпринимает никаких мер к предупреждению столкновений, но, по-видимому, выискивает их, может быть, для того, чтобы потом заключить непрочный мир.
По поводу «животного критерия» Толстой говорил, что птица так устроена, что ей надо летать, клевать, ходить, соображать, и когда она все это делает, тогда она удовлетворена, счастлива, тогда она птица.
Николай Федорович очень не одобрял этой философии и говорил:
– Таково новоязыческое мудрование гр. Толстого, достоинство которого выразится несравненно яснее, если мы вместо птицы возьмем свинью или борова: свинья или боров так устроен, что ему необходимо постоянно жрать, предаваться сладострастию, пожирать даже своих детей, поросят, и когда он все это делает, он удовлетворен, счастлив, тогда он свинья, боров…
Также непонятна была для Николая Федоровича и непоследовательность Толстого в отношении к изображениям живописным и фотографическим: изображения, например, святых или иконы Толстой отвергал со всею силою отрицания, доходившею до ненависти, а свои собственные изображения не только допускал, но и содействовал их появлению и распространению, с удовольствием позируя и перед художниками, и перед фотографами. По этому поводу Николай Федорович писал:
«Наиболее почитаемое наиболее ненавистно Толстому: ненавидит он чтимые русским народом иконы, а наибольшую ненависть питает он к иконе, которую наиболее почитают, – к иконе Иверской Божией Матери, называя ее в своей ненависти даже злою, и, конечно, потому, что, признавая за собою только право на всеобщее почитание, он не хочет с кем-либо делить его; отсюда и то, что, отвергая почитание икон, священных изображений, – свои изображения, свои иконы Толстой распространяет всюду, так что если бы собрать все разнообразные иконы Толстого, – а это и будет когда-либо сделано, – получится громадный иконостас».
Уже после того как Толстой выработал свою веру, напечатал свое сочинение «В чем моя вера» и осудил и отверг клятву и присягу, однажды он пришел, совсем не в урочное время, к Николаю Федоровичу в каталожную Румянцевского Музея. Николай Федорович редко бывал один, и на этот раз с ним были его сослуживцы, и между ними Д. П. Лебедев. Неожиданное появление Толстого и какая-то торопливость в его приемах обратили внимание. Толстой объяснил, что пришел за последними справками, так как уезжает в свой уездный город.
– Зачем? – резко спросил Николай Федорович, удивленный, очевидно, необычным временем отъезда.
Толстой, как всегда, наивно и искренно ответил:
– Вот, прислали повестку, меня выбрали присяжным заседателем… Должен ехать судить…
Общее изумление заставило Толстого умолкнуть и прервать свое объяснение. Николай Федорович не выдержал и засыпал вопросами:
– Как!.. Вы отрицаете присягу, и едете присягать?.. Вы отвергаете суд и будете судить?..
– Как же мне быть?.. Ведь я не по своей воле… Меня заставляют… Полиция отобрала подписку, что я явлюсь… – пробовал отговориться Толстой, понявший двусмысленность своего положения.
На выручку явился Д. П. Лебедев, доставший Свод законов и подыскавший статью, по которой налагался штраф за неисполнение обязанности присяжного заседателя. Толстой был очень рад узнать такой простой и легкий выход из своего затруднительного положения и, примирившись с мыслью уплатить штраф, ушел.
Через несколько дней после этого случая вся Россия читала телеграфные сообщения из Тульской губернии о том, что граф Л. Н. Толстой отказался исполнить обязанности присяжного заседателя как противоречащие его вере.
Не останавливаясь далее на частных случаях, выясняющих отношение Николая Федоровича к Толстому, я перейду к изложению основной разницы в их мировоззрениях.
Граф Л. Н. Толстой отрицал способность разума достигнуть познания и не признавал способности воли проявиться в деле.
Николай Федорович, горячий проповедник бесконечных и неограниченных возможностей, сокрытых в разуме и воле человека, остроумно называл учение Толстого призывом к недуманию и неделанию. Он предусмотрительно провидел, что отрицание теоретического разума вело к наукоборству и забастовкам учащихся, а отрицание разума практического неизбежно влекло за собой забастовки рабочих.
Николай Федорович верил в силу ума и силу воли человека и всю жизнь свою отдал неустанному и добровольному труду, проповедуя всеобщий труд со всеми и для всех… Естественно, что он не мог примириться с отрицанием того дела, которое он признавал единственным для всех и резко осудил все учение Толстого. По его взгляду, Толстой не понял призыва к миру и, прикрываясь учением о непротивлении – «этой самой злой насмешкой над христианством и над здравым смыслом», – обратил его в призыв не платить податей, не исполнять воинской повинности, что порождает нестроения, восстания, вражду, т. е. прямо противоположные цели. «До сих пор, – писал Николай Федорович, – неделание было теориею, но в забастовках оно переходит в дело и становится величайшим преступлением, ибо под неделанием, как и под непротивлением, скрывается восстание молодого против старого и господство худшего, нестесняющегося никакими средствами, над лучшим, желающим трудиться». Поэтому Николай Федорович часто называл Толстого «яснополянским фарисеем» и даже высказал чрезвычайно оригинальный взгляд на него. «В Толстом, – писал он, – который был другом крепостника Фета до самой смерти последнего и восхищался произведением этого писателя „Из деревни“, – в Толстом является мститель за отмену крепостного права: он жаждет разрушения государства и под маской крайнего либерализма призывает к отказу от воинской повинности, к неплатежу податей, без которых государство существовать не может…»
В итоге Николай Федорович считал всю философию Толстого лицемерием. По его словам, «обесценение жизни составляет первую основу философии Толстого, а лицемерие – вторую ее основу. Лицемерие составляет силу Толстого, как это было и у фарисеев. Наш век в лице Толстого имеет такого представителя, какого он достоин и с которым он вместе лицемерит, будто бы не замечая того, что скрывается под проповедью непротивления».
Последний конец всего учения Толстого приводил, по оценке Николая Федоровича, как раз к противоположному всего того, что в начале и на словах ставилось целью. «Когда, – говорил он, – к требованию разъединения, этому требованию Толстого и вообще нашего времени, кроющемуся под вопросами о свободе мысли, о свободе совести, то есть о свободе бесконечных блужданий, создающей чрезвычайное множество философских учений, одно другое опровергающих, – если к требованию о разъединении присоединить еще требование Толстого об объединении, об объединении на недумание и неделание, прямым приложением которого было приглашение к забастовкам, обращенное к студентам, а наконец и ко всем, – к забастовкам как „единственному средству спасения“, как это говорится в заглавии приглашения или прокламации, – тогда станет очевидным, что Толстой, сознательно или же бессознательно, требует уничтожения труда, как умственного, так и физического или механического, требует, следовательно, уничтожения разума, воли; и это согласно, конечно, с учением о нирване, о нирване уже не трансцендентной, а имманентной т. е. самими создаваемой». А это и есть «полное отрицание разума, воли, вообще – жизни. Вот явился наконец искупитель, спаситель, который хочет жизнью жизнь попрать и всем смерть даровать!»
Столь резкое расхождение в мировоззрениях, доходившее до взаимного исключения друг друга, делало самый разрыв между мыслителями уже только вопросом времени, но неизбежным. И этот разрыв между Николаем Федоровичем и графом Л. Н. Толстым наконец наступил, разрыв окончательный и бесповоротный, после которого и Толстой не пришел на другой день искать примирения.
Дело было в 1892 году.
Голодный 1891-й год Толстой провел среди голодающих, устраивая столовые и всячески помогая голодным пережить бедствие.
Николай Федорович очень сочувствовал помощи голодающим, но не верил искренности Толстого и опасался того, что Толстой принесет в деревню не мир, а вражду. Но и Николай Федорович не ожидал, чтобы Толстой открыто выступил с призывом к восстанию и междоусобию. А именно такой призыв к мятежу и междоусобию он усмотрел в известном письме Толстого о голоде, напечатанном в Лондоне. Тягчайшего преступления, чем братоубийство и призыв к нему, Николай Федорович не знал и, прочитав лондонское письмо Толстого, Николай Федорович в ужасе выкинул его автора и из своего сердца, и из своей памяти.
Вернувшись в Москву, Толстой поспешил зайти в Музей к Николаю Федоровичу.
Уже был четвертый час на исходе, и московские сумерки уже царили по залам и коридорам Музея. Солдаты уже затворили большинство ставней, и Николай Федорович пригласил меня, остававшегося с ним в каталожной, закончить занятия и уходить с ним. Едва мы повернули по коридору налево, как в глубине коридора я отчетливо увидел фигуру Толстого, торопившегося навстречу Николаю Федоровичу. Я передал Николаю Федоровичу свое наблюдение и сразу же был поражен неудовольствием, которого не скрыл Николай Федорович. Заложив руки за спину, он резко остановился, сказав:
– Что ему надо?
И сейчас же предупредил подходившего к нему Толстого вопросом:
– Что вам угодно?
– Подождите, – отвечал Толстой, – давайте сначала поздороваемся… Я так давно не видал вас.
– Я не могу подать вам руки… Между нами все кончено…
Николай Федорович нервно держал руки за спиной и, переходя с одной стороны коридора на другую, старался быть подальше от своего собеседника.
– Объясните, Николай Федорович, что все это значит? – спрашивал Толстой, и в голосе его тоже послышались нервные нотки.
– Это ваше письмо напечатано в «Daily Telegraph»?
– Да, мое.
– Неужели вы не сознаете, какими чувствами продиктовано оно и к чему призывает? Нет, с вами у меня нет ничего общего, и можете уходить.
– Николай Федорович, мы старики, давайте хотя простимся… Но Николай Федорович остался непреклонным, и Толстой с видимым раздражением повернулся и пошел…
На другой день в Музее с удивлением все узнали, что Толстой, выйдя из Музея, пошел на Тверской бульвар к директору Румян-цевского Музея В. А. Дашкову, который жил в своем доме, рядом с домом обер-полицмейстера, и принес ему жалобу на Николая Федоровича за грубое и невежливое обхождение с ним…



