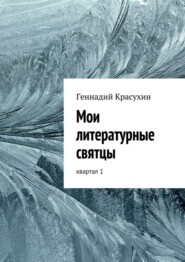
Полная версия:
Мои литературные святцы
А вот стихи его мне нравились:
Уж с год таскается за мнойПовсюду марбургский философМой ум он топит в мгле ночнойМетафизических вопросов.Когда над восковым челомВолос каштановая гриваВолнуется под ветерком,Взъерошивши её, игривоНа робкий роковой вопросОтветствует философ этот,Почёсывая бледный нос,Что истина, что правда… – метод.Средь молодых, весенних чащ,Омытый предвечерним светом,Он, кутаясь в свой чёрный плащ,Шагает тёмным силуэтом;Тряхнёт плащом, как нетопырь,Взмахнувший чёрными крылами…Новодевичий МонастырьБлистает ясными крестами:– Здесь мы встречаемся… СидимНа лавочке, вперивши взорыВ полей зазеленевший дым,Глядим на Воробьёвы горы.«Жизнь, – шепчет он, остановясьСредь зеленеющих могилок, —«Метафизическая связьТрансцендентальных предпосылок!..Рассеется она, как дым:Она не жизнь, а тень суждений»…И клонится лицом своимВ лиловые кусты сирени.Пред взором неживым меняОхватывает трепет жуткий. —И бьются на венках, звеня,Фарфоровые незабудки.Как будто из зелёных травПокойники, восстав крестами,Кресты, как руки, ввысь подъявМоргают жёлтыми очами.На смерть Белого (он умер 8 января 1934 года) отозвался Мандельштам:
Голубые глаза и горячая лобная кость —Мировая манила тебя молодящая злостьИ за то, что тебе суждена была чудная власть,Положили тебя никогда не судить и не клясть.На тебя надевали тиару – юрода колпак,Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!Как снежок на Москве заводил кавардак гоголёк:Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок…Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,Сочинитель, щеглёнок, студентик, студент, бубенец…Конькобежец и первенец, веком гонимый взашейПод морозную пыль образуемых вновь падежей.Часто пишется казнь, а читается правильно – песнь,Может быть, простота – уязвимая смертью болезнь?Прямизна нашей речи не только пугач для детей —Не бумажные дести, а вести спасают людей.Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,Налетели на мёртвого жирные карандаши.На коленях держали для славных потомков листы,Рисовали, просили прощенья у каждой чертыМеж тобой и страной ледяная рождается связь —Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.Да не спросят тебя молодые, грядущие те,Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте…А родился Белый 26 октября 1880 года. Прожил 53 года.
Ефим Николаевич Пермитин (родился 8 января 1896 года) воевал в Гражданскую в Сибири против колчаковцев. Был ранен.
Первый рассказ напечатал в барнаульской газете «Жизнь Алтая» (1921). В 1923 в Усть-Каменогорске выпускает первый в стране журнал «Охотник Алтая».
В 1925 в Новосибирске возглавил журнал «Охотник и пушник Сибири», где печатает первую свою повесть «Капкан». Повести, написанные позже, вошли в его роман «Горные орлы» (1951).
В 1938 был арестован и провёл в ссылке 6 лет (до 1944 года). Но в 1954 снова приезжает на Алтай. На этот раз с эшелоном первоцелинников, которым посвятил роман «Ручьи весенние».
С конца 1956 года писал автобиографическую трилогию: «Жизнь Алексея Рокотова»: «Раннее утро» (1956), «Первая любовь» (1962), «Поэма о лесах» (1969).
В 1970-м был избран секретарём Союза писателей РСФСР и тут же получил Госпремию за трилогию «Жизнь Рокотова».
А через год – 18 апреля 1971-го скончался.
Как писатель, может быть, запомнился только землякам. Проза его декларативна и малопривлекательна.
Вот прекрасный поэт Владимир Николаевич Корнилов, мой друг, увы, уже больше десяти лет ушедший от нас: умер 8 января 2002 года.
С ним у меня связано воспоминание о нештатной работе в 1965 году в «Семье и школе», где мы с ответственным секретарём журнала Петром Ильичём Гелазонией, пробивали мало проходимые по тем временам литературные произведения. В этом нас поддерживал член редколлегии Владимир Михайлович Померанцев.
Поначалу нам это удавалось. Настолько, что мы впали в эйфорию.
Эйфория наша длилась, однако, очень недолго. Причём споткнулись мы, а потом упали совершенно неожиданно: никак не ожидали, что гром грянет с почти безоблачного неба.
Мы напечатали подборку стихов Владимира Корнилова, среди которых мне особенно нравились стихи об Ахматовой. Они сейчас очень известные: «Ваши строки невесёлые, / Как российская тщета, / Но отчаянно высокие, / Как молитва и мечта, / Отмывали душу дочиста, / Уводя от суеты, / Благородством одиночества / И величием беды», ну и так далее: их легко найти в корниловских книжках.
Но то стихотворение, которое нам вышло боком, Корнилов (родился 29 июня 1928 года) потом никогда не перепечатывал. Даже когда рухнула советская власть, и его восстановили в союзе писателей, и он получил возможность доносить до нового читателя все свои прежние вещи. Мне он объяснил, что не печатает «Пса», потому что Лара (его жена и взыскательный читатель), не очень любит, когда он в стихах погружается в быт. Я очень ценю Ларин вкус, но здесь позволю себе с ней не согласиться. По-моему, стихотворение, которое привожу по памяти, замечательное:
Пёс был шелудив и глуп,Тощ и плюгав.Пил из водосточных труб,Жрал – из канав.Непонятливый, никакВзять не мог в толк,Что хоть сто таких собакМог кормить полк.А в полку у нас врачомДама была.Мы пред ней стояли в чёмМать родила,Еле вытерпев позор,Лезли в бельё.Ну так вот. Из-за неёВспыхнул сыр-бор.Увидала как-то разЛекарша псаИ пошла и завеласьНа полчаса: —Что за пёс? откуда пёс?Что вам здесь – цирк?Не хватало, чтоб занёсВсяких бацилл!А дежурным по полкуБыл капитан.Топал с шашкой на боку,Плац подметал.Заспешил на дамский клич,Как джентльмен,И осклабился, как хлыщ:– Это в момент!Пёс в щенячьей простотеНе понимал.А начальник пистолетПриподымал.По науке совмещалС мушкой прицел.Пёс лежал и не мешал,Скучно глядел.…Тонны в полторы ударВбил, вдавил в пыль.Снайпер подмигнул: как дал?Как, мол, убил?..Но врачиха сникла вдруг:Что ж тут смотреть…Всё-таки не по нутруЖенщине – смерть.…Вот и всё. Сошла, журча,Дюжина лет.Думаю, того хлыщаВ армии нет.Думаю, теперь уродМалость поблёк:Возглавляет гардеробИли ларёк.Женщины и не глядятНа дурака,А жена – он был женат —Ставит рога.Думаю, забыл всю спесь,Жалок стал, льстивДумаю, что так и есть:Мир справедлив!Казалось бы, что здесь можно оспорить? К чему прицепиться? Позиция поэта кристально чиста. Его приговор бездушному негодяю понятен и естественен. Вот стихи, которые добавят человеческим душам гуманности, и потому они особенно уместны на страницах журнала, который называется «Семья и школа»!
Оказалось, что именно на его страницах они особенно неуместны. Потому что существует такое святое для каждого советского человека понятие, как «военно-патриотическое воспитание». Об этом нам напомнила «Красная звезда», напечатавшая обширную злобную реплику некого майора. Где в советской армии, возмущался майор, автор нашёл такого капитана? Что это как не попытка подорвать доверие читателей к овеянному славою советскому офицерству? По какому праву автор и, очевидно, разделяющая его мнение редакция… Впрочем, запал майора, которого сейчас тоже пересказываю по памяти, стандартен и шаблонен: так писали, когда жаждали крови, когда были убеждены, что кровь обязательно прольётся!
И не ошиблись. «Красная звезда» была органом всемогущего ведомства – политуправления армии. Её критика ничего другого, кроме оргвыводов не требовала. И спешно созванное совместное заседание коллегии Министерства просвещения и президиума Академии педагогических наук их немедленно сделало. Орлов получил выговор, Померанцева из редколлегии вывели (или добились, чтобы он сам из неё вышел, – не помню). Искали, конечно, стрелочника. Но я в штате не работал. И было понятно, что в обозримом будущем меня туда и не возьмут.
Зоя Ивановна Воскресенская по карьерной лестнице стала подниматься с 1923 года с должности политрука в колонии малолетних нарушителей.
Уже в августе 1929-го она работает в Иностранном отделе ЛГПУ, то есть во внешней разведке.
Была отправлена в Харбин, где два года выполняла ответственные задания ОГПУ во время острейшей борьбы на КВЖД.
В 1932 возглавляла Иностранный отдел постоянного представительства ОГПУ в Ленинграде.
С 1935 по 1939 – заместитель резидента разведки НКВД в Финляндии. Официально исполняла функции представителя Интуриста в Хельсинки под фамилией Ярцева. В 1936 году резидентом в Финляндию (под прикрытием должности консула) приехал Б. А Рыбкин. Поначалу у резидента и зама отношения не сложились. Когда разгневанный Центр приказал Воскресенской готовиться к отъезду, в ответ пришла просьба обоих: они просят пожениться.
И поженились.
В дальнейшем Воскресенская-Рыбкина до самой финской войны взаимодействовала с Павлом Анатольевичем Судоплатовым, за которым уже тогда числилось немало дел (убийство Троцкого, например).
Перед самой войной с Финляндией вернулась в Москву и занималась аналитической работой: обрабатывала информацию, которая к ней стекалась.
С 1941 по 1944 была пресс-секретарём советского посольства в Швеции. Послом была А. Коллонтай. Обе, каждая по своей линии, содействовали тому, что Финляндия разорвала договор с Гитлером.
После войны Воскресенская продолжала работать в центральном аппарате разведки, стала начальником немецкого отдела, выезжала со спецзаданиями в Берлин.
В 1947 году в автомобильной катастрофе погиб муж Воскресенской Рыбкин.
В 1953 году выступила в суде в защиту Судоплатова, которому вменялось много преступлений, в частности, организация убийства Михоэлса. Судоплатова посадили во Владимирскую тюрьму, где тот перенёс 3 инфаркта и стал инвалидом 2-й группы.
Однако реабилитации в 2002 году добился. Хотя общество «Мемориал» считает, что реабилитации он не заслуживал.
А Воскресенская была уволена из разведки. Поскольку она просила оставить её в органах до наступления пенсионного возраста, её направили начальником спецчасти в Воркутлаг, где прослужила около двух лет.
Выйдя на пенсию и узнав, что её рассекретили, она написала книгу «Теперь я могу сказать правду. Из воспоминаний разведчицы». Книга вышла в год её смерти. Она умерла 8 января 1992 года (родилась 28 апреля 1907 года), а в это время уже тиражи книг стремительно падали.
О тех, что у неё были прежде, ей полковнику, кавалеру многих боевых орденов, можно было только мечтать.
Ведь прежде с 1962 по 1980 год её книги были опубликованы тиражом в 21 миллион 642 тысячи экземпляров.
Почему – понятно. В детской литературе она занималась ленинской темой. Её госпремия СССР получена за сценарий и литературную основу фильма «Сердце матери» – о матери Ленина. А премия Ленинского комсомола за книгу «Надежда» (как звали жену Ленина?).
В общем, сумела ловко устроиться не только в органах разведки.
9 января
Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже «Дни Турбиных» – рыба. Конечно, очень легко «критиковать» и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое лёгкое нельзя считать самым хорошим. Дело не в запрете, а в том, чтобы шаг за шагом выживать со сцены старую и новую непролетарскую макулатуру в порядке соревнования, путём создания могущих её заменить настоящих, интересных, художественных пьес советского характера. А соревнование – дело большое и серьёзное, ибо только в обстановке соревнования можно будет добиться сформирования и кристаллизации нашей пролетарской художественной литературы.
Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она даёт больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав своё дело окончательно проигранным, – значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь», «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма.
Конечно, автор ни в какой мере «не повинен» в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?
Цитата из письма Сталина Владимиру Наумовичу Билль-Белоцерковскому (родился 9 января 1885 года), написавшему вождю кляузу на Художественный театр и его режиссёра Голованова, который отдаёт предпочтение Булгакову и даже поставил его контрреволюционную пьесу «Бег».
Насчёт «Бега» Сталин согласен:
«Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, – стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. «Бег», в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление».
Правда, Сталин выдвигает и условия, при которых «Бег» может оказаться на театральной сцене:
«Впрочем, я бы не имел ничего против постановки „Бега“, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам ещё один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему „честные“ Серафимы и всякие приват-доценты, оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою „честность“), что большевики, изгоняя вон этих „честных“ сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно».
Мы знаем, что никаких сталинских условий Булгаков принимать не стал, но и Билль-Белоцерковский не добился желаемого результата своей кляузой. Наоборот. Ответ Сталина заставил театральных бюрократов озаботиться (ненадолго!) судьбой безработного, почти не имеющего средств к существованию Булгакова.
Что же до самого Билль-Белоцерковского, то стоит послушать его сына, известного правозащитника, эмигрировавшего из России при Брежневе:
Расскажу вкратце о литературной карьере отца. Он написал 14 пьес и том рассказов из западной и морской жизни. Некоторые из его пьес шли за границей. В Германии на рубеже 30-х годов большим успехом пользовалась комедия «Луна слева». Впервые её поставил в Берлине известный немецкий режиссер Эрвин Пискатор, а потом она шла и во многих других немецких театрах. У нас дома хранился толстый альбом вырезок из немецких газет с рецензиями на эту пьесу.
Но самое выдающееся произведение отца – пьеса «Шторм». В 20-е годы она шла по всей стране, а потом и за рубежом. В архиве отца я нашёл журнал «Театр» за 1928, кажется, год. Там был напечатан список наиболее «гонорарных» писателей, и возглавлял его отец! А конкуренция тогда была мощная. В выборе репертуара театры были совершенно свободны – широко шла классика и много кассовых, развесёлых штучек. Во МХАТе, к примеру, блистала пьеска под названием «Сара хочет негра». И там же шла «Белая гвардия» Булгакова. Но со «Штормом» тогда никто не мог конкурировать.
Конечно, определение сыном пьесы отца выше булгаковской ничем, кроме проявления родственных чувств, не объяснишь.
Сын упирает на то, что отец вышел в 1928 году из РАППа, и рапповцы обратились к Сталину за разрешением расправиться с изменником. Сталин им ответил:
«Много ли у вас таких революционных драматургов, как т. Б.-Белоцерковский?.. Неужели вы сомневаетесь, что ЦК не поддержит политики изничтожения Б.-Белоцерковского, проводимой „На литпосту“? За кого же вы принимаете ЦК? Может быть, в самом деле поставить вопрос на рассмотрение ЦК? По-дружески советую вам не настаивать на этом: невыгодно, – провалитесь наверняка».
Но, вглядываясь в биографию Билль-Белоцерковского, мы видим приспособленца, бесконечно переделывавшего свой «Шторм» по пожеланиям властей имеющих. Да и выход из РАППа ничем ему не грозил. Лично к нему Сталин относился хорошо.
Объективно говоря, Билль-Белоцерковский был человеком не без таланта. Но он растерял его, обслуживая властную верхушку.
Даже тряхнул стариной – написал после значительного перерыва пьесу «Цвет кожи» (1948), чтобы внести свой вклад в антиамериканскую кампанию.
Умер 1 марта 1970 года.
Виталий Яковлевич Виленкин (родился 9 января 1911 года) один из крупнейших наших театроведов, летописец Художественного театра. Будучи заведующим кафедры искусствознания Школы-студии МХАТ, он стал участником осуществления идеи Театра молодого актёра, которые составили воспитанники Школы-студии, и который через некоторое время стал Театром-студией «Современник».
Но для меня Виталий Яковлевич прежде всего автор книги «В сто первом зеркале» – чудесных воспоминаний о встречах с Анной Ахматовой, о её жизни, о разговорах с ней.
С Сергеем Григорьевичем Козловым мы впервые встретились в кабинете поэта Евгения Храмова, который работал тогда литконсультантом «Юности». «Юность» находилась на пятом этаже дома №30 на Цветном бульваре, откуда она потом уедет, уступив этот пятый этаж «Литературной газете», куда я через десять лет приду работать.
А тогда в 1957-м Храмов нас вызвал, потому что ему понравились наши стихи, которые мы оба послали по почте. После дружелюбного разговора мы с Козловым зашли в магазин, купили бутылку коньяка, закуски и отправились к нему домой в огромную – метров 30 – комнату в общей квартире дома недалеко от Театра Юного Зрителя.
До сих пор помню начало стихотворения Козлова, которое он прочитал мне тогда:
Знают коровы рыжиеИ воробей в саду,Что те, кто зимою выживутВесною не пропадут.И конец:
Но даже и листья красныеНе знают, как и колосья,Что лучше любить напрасно,Чем не любить вовсеДолго не расставались: читали друг другу стихи, болтали и распростились друзьями, пообещавшими друг другу встретиться в понедельник в Центральном доме культуры железнодорожников, куда нас обоих направил Храмов, позвонив Григорию Михайловичу Левину – поэту, который в этом клубе вёл литературное объединение «Магистраль».
Меня «Магистраль» очаровала, Серёжа отнёсся к ней более сдержанно. Сказал, что пишет не хуже любого из выступивших поэтов. Мне это показалось неуместным бахвальством.
Но его стихи в «Магистрали» приняли неплохо. И поначалу он не пропускал занятий, выезжал вместе с другими выступать в дома пионеров или в парк культуры. А потом стал потихонечку исчезать.
Однажды, развернув какую-то из московских газет, я сразу увидел заголовок «Стихи Сергея Козлова». Его представлял Сергей Михалков. Удивило, что Козлов, оказывается, детский поэт.
А потом стали выходить его небольшие детские книжки. Потом я увидел мультфильмы по сценариям его сказок. И понял: он нашёл в этом призвание.
Ёжик и Медвежонок стали его любимыми персонажами, сколько он написал о них рассказов и сказок. А киновариант сказки «Ёжик в тумане», осуществлённый Юрием Норштейном, является одним из лучших мультфильмов за всю историю этого жанра.
Умер Сергей Козлов 9 января 2010 года (родился 22 августа 1939-го).
10 января
Лев Фёдорович Федотов (родился 10 января 1923 года) стал известен благодаря своим дневникам, которые вёл в школе и позже.
Его отец был профессиональным революционером, и они получили квартиру в знаменитом «доме на набережной», как назвал его живший в нём Юрий Трифонов.
Они и учились вместе – в школе имени Белинского на Софийской набережной.
В 1941-м Лёва кончил 9-й класс, в декабре 1941-го уехал с мамой в эвакуацию. В Татарию, и несмотря на сильную близорукость и слабое сердце стал обивать пороги военкомата, просясь на фронт.
В апреле 1943-го его призвали, направили под Тулу, но воевать ему не пришлось. 25 июня 1943 года грузовик, в котором ехал Лёва, попал под бомбёжку. Юноша погиб.
О том, что Лёва вёл дневник, знали многие. В том числе, и друг детства Лёвы, писатель Юрий Трифонов, который списал с Лёвы своего персонажа романа «Дом на набережной» Антона Овчинникова (1976).
В 1980 Трифонов попросил у матери Федотова на время дневник сына. Он хотел использовать его записи в пьесе «Дом на набережной», которую писал для театра на Таганке.
В дневнике от 5 июня 1941 года Федотов записал:
Я, правда, не собираюсь быть пророком, но все эти мысли возникли у меня в связи с международной обстановкой. А связать их, дополнить помогли мне логические рассуждения и догадки. Короче, будущее покажет.
И будущее показало.
Хотя сейчас Германия находится с нами в дружественных отношениях, но я твёрдо уверен, что всё это только видимость. Тем самым она думает усыпить нашу бдительность, чтобы в подходящий момент всадить нам отравленный нож в спину…
Рассуждая о том, что, рассовав свои войска вблизи нашей границы, Германия не станет долго ждать, я приобрёл уверенность, что лето этого года у нас в стране будет неспокойным. Я думаю, что война начнётся или во второй половине этого месяца, или в начале июля, но не позже, ибо Германия будет стремиться окончить войну до морозов. Я лично твёрдо убеждён, что это будет последний наглый шаг германских деспотов, так как до зимы они нас не победят. Победа победой, но вот то, что мы сможем потерять в первую половину войны много территории, это возможно.
Честно фашисты никогда не поступят. Они наверняка не будут объявлять нам войну. А нападут внезапно и неожиданно, чтобы путём внезапного вторжения захватить побольше наших земель. Как ни тяжело, но мы оставим немцам такие центры, как Житомир, Винница, Псков, Гомель и кое-какие другие. Минск мы, конечно, сдадим, Киев немцы тоже могут захватить, но с непомерно большими трудностями…
О судьбах Ленинграда, Новгорода, Калинина, Смоленска, Брянска, Кривого Рога, Николаева и Одессы я боюсь рассуждать. Правда, немцы настолько сильны, что не исключена возможность потерь даже этих городов, за исключением только Ленинграда. То, что Ленинград немцам не видать, в этом я твёрдо уверен. Если же враг займёт и его, то это будет лишь тогда, когда падёт последний ленинградец. До тех пор, пока ленинградцы на ногах, город Ленина будет наш!
…За Одессу, как за крупный порт, мы должны, по-моему, бороться интенсивнее, даже чем за Киев.
И я думаю, одесские моряки достойно всыпят германцам за вторжение в область их города. Если же мы и сдадим по вынуждению Одессу, то гораздо позже Киева, так как Одессе сильно поможет море. Понятно, что немцы будут мечтать об окружении Москвы и Ленинграда, но я думаю, что они с этим не справятся.
Окружить Ленинград, но не взять его фашисты ещё могут. Окружить же Москву они не смогут в области времени, ибо не успеют замкнуть кольцо к зиме. Зимой же для них районы Москвы и дальше будут просто могилой…
запись от 5 июня 1941.Вчера из газет я узнал оригинальную новость: в Германии уже бывали случаи, когда высшие охранные политические органы фашистов, то есть известные всем по своей жестокости и отборной кровожадности члены «СС», проводили аресты в штурмовых отрядах. Дело в том, что мировое мнение полно слухами о разногласиях фашистской партии насчёт войны с Россией, считая её безумным шагом, а известно, что штурмовики – это младшие братья по должности самих членов «СС» и так же, как и последние, состоят из отборных фашистских элементов. Таким образом, аресты штурмовиков говорят о непрочности и шаткости фашистской клики.
Я думаю, что, когда фашисты будут задыхаться в борьбе с нами, дело дойдёт в конце концов и до начальствующего состава армии. Тупоголовые, конечно, ещё будут орать о победе над СССР, но более разумные станут поговаривать об этой войне, как о роковой ошибке Германии.
Я думаю, что в конце концов за продолжение войны останется лишь психопат Гитлер, который ясно не способен сейчас и не способен и в будущем своим ограниченным ефрейторским умом понять бесперспективность войны с Советским Союзом; с ним, очевидно, будет Гиммлер, потопивший разум в крови народов Германии и всех порабощённых фашистами стран, и мартышка Геббельс, который как полоумный раб будет всё ещё по-холопски горланить в газетах о завоевании России даже тогда, когда наши войска, предположим, будут штурмовать уже Берлин.



