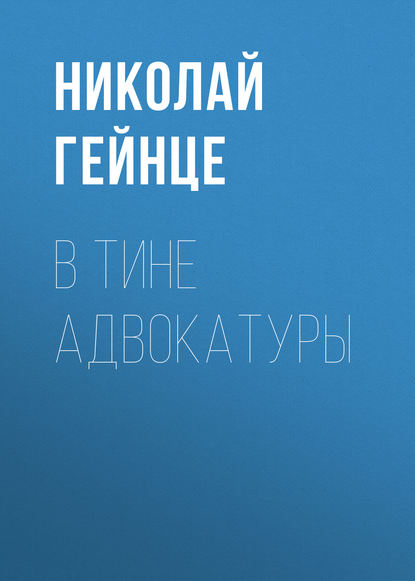 Полная версия
Полная версияВ тине адвокатуры
Барон тотчас же сообразил, что такая бумага в руках следователя явилась бы сильной уликой против Николая Леопольдовича и поручил князю достать ему ее во что бы то ни стало, обещая уплатить за нее тысячу рублей наличными деньгами.
Князь обещал, но попросил задатка. Осторожный и скупой барон отказал, и Шестов снова переметнулся на сторону Гиршфельда. В озлоблении на Розена, он проболтался Агнессе Михайловне о его предложении. Та перепугалась. Она не могла поручиться, что князь, подкупленный снова подачкой барона, не отнимет у нее эту бумагу, или просто не выкрадет ее у нее.
«Отдать матери!» – мелькнуло в ее уме, но она не хотела, чтобы мать знала о существовании этой бумаги, и кроме того, Марья Викентьевна была далеко не аккуратной, у нее никогда ничего не было заперто, и князь, бывая в ее доме, мог свободно стащить драгоценную бумагу, на которую Зыкова возлагала все свои последние надежды. Под влиянием минуты она решила передать ее на сохранение тому же Николаю Леопольдовичу. Задумано – сделано.
«Он не обманет и так дело наверное кончится благополучно, его не подденут!» – размышляла она дорогой к Гиршфельду.
Откровенно рассказала она ему причину своего решения возвратить ему его обязательство.
– Я возвращу его вам по первому вашему требования, – с чувством пожал ей руку Николай Леопольдович, – поверьте, что за ваш честный и благородный поступок вы получите от меня гораздо больше обещанного.
Он при ней запер бумагу в несгораемый шкаф.
– Прощу вас, не говорите об этом Владимиру, – сказала она.
– Стану я с ним разговаривать, я на него давно махнул рукой, да и показания его для меня безразличны – он стал совсем идиотом. Кто ему поверит, в чью бы пользу он ни показывал! Вы – другое дело.
В этот же визит она получила от него пятьдесят рублей.
– Это для ваших деток! – ласково сказал он, подавая деньги.
Она рассыпалась в благодарностях.
Это-то обстоятельство долго удерживало ее на стороне Гиршфельда, и лишь после долгой борьбы, она, убежденная князем и соблазненная деньгами барона, решилась дать несколько показаний против Николая Леопольдовича, которые, впрочем, как и князь Владимир, через несколько дней опровергла противоположными. Каждый раз после данного ей под диктовку Розена показания, она решила попросить Гиршфельда возвратить ей документ, бегала к нему с этою специальною целью, но, увы, у нее не поворачивался язык.
Николай Леопольдович не был еще не только привлечен в качестве обвиняемого, но даже ни разу не вызван судебным следователем, хотя какими-то судьбами находил возможным следить за малейшими подробностями следствия и знал двойную игру Агнессы Михайловны, но не подавал ей об этом вида.
«Хорошо еще, что она, дура, возвратила документ, а то бы еще пришлось ей же платить за все ее каверзы!» – рассуждал он сам с собой в минуты, когда на него находила уверенность, что он выйдет сухим из воды.
Минуты эти время от времени стали появляться реже – продолжительность производства следствия начала его тревожить.
«Чего они копаются?» – думал он, и холодный пот выступил на его лбу.
Перспектива возможности привлечения в качестве обвиняемого и даже осуждения стала нередко мелькать в его уме.
«Пустяки!» – гнал он от себя тревожные мысли, но все таки продолжал понемножку прикармливать Шестова и Зыкову, заставляя их давать у следователя те или другие показания.
XX
На Лахте
Был конец июля. Николай Леопольдович проводил это лето на Лахте. Так называется живописная деревенька, раскинувшаяся на берегу Невы невдалеке от взморья и лежащая верстах в семи от Петербурга. Она считается сравнительно дешевой дачной местностью, но все-таки доступна вполне, т. е. со всеми удобствами, только людям со средствами, имеющими возможность держать своих лошадей, так как сообщение с городом очень неудобно. Гиршфельд нашел нужным в виду все продолжавшегося над ним следствия провести это лето белее скромным образом и в более уединенной местности, так как состояние его духа день ото дня становилось тревожнее, хотя из Москвы и получено было известие о прекращенни местным прокурорским надзором дела по обвинению его в убийстве Князева, в виду объяснения самого покойного, записанного в скорбном диете Мариинской больницы, но от петербургского прокурорского надзора, видимо, ему не предстояло отделаться так легко и скоро.
Следствие проводилось и все более и более облекалось угрожающею таинственностью. Даже те «верные люди», имевшиеся под рукой у Николая Леопольдовича, не могли сообщать ему много о ходе его дела. Он был мрачно озлоблен в редко ездил в Петербург. Это состояние его духа и продолжительные отлучки из города не остались, конечно, без влияния на бюджет Шестова и Зыковой – оии переживали тяжелые дни, им часто не на что было пообедать и накормить детей.
Барон Розен требовать непременно достать ему обязательство Гиршфельда, а без этого, кроме месячных денег, не давал ни копейки. Получаемых пятидесяти рублей, более половины которых уходило на уплату за помещение, при бестолковом ведении хозяйства, хватало не более как на неделю – остальные три приходилось проводить, как говорится, на пище св. Антония. Князь Владимир, для изыскания денег, пускался на все тяжкие. Один из его знакомых позабыл у него ящик с биллиардными шарами. Возвратившись за ними через несколько часов, он получил от беззастенчивого хозяина лишь квитанцию ссудной кассы на позабытые шары. Даже верного поклонника своей сожительницы, ежедневно посещавшего ее и ссужавшего нередко отнимаемыми им у собственной семьи рублевками, Владимира Васильевича Охотникова, не пощадил князь в своей погоне за деньгами.
Воспользовавшись тем, что Агнессе Михайловне понадобилась на несколько дней швейная машина, чтобы сшить детям кой-какое бельецо, он явился к жене Охотникова, Анне Александровне, упросил ее дать им на неделю ее машину, и когда та, по доброте ее сердца, согласилась, он увез ее не завозя домой прямо с места заложил в ссудной кассе и передал через несколько дней квитанцию Владимиру Васильевичу. Связанный с Зыковой, видимо, более, чем дружбой, последний безропотно положил ее в карман, ограничившись лишь заявлением князю, что его следовало бы за это побить.
В один из таких дней абсолютного безденежья в голове проснувшегося Шестова мелькнула, как ему, по крайней мере, показалось, гениальная мысль.
– Съезди-ка ты к Николаю Леопольдовичу и попроси его уплатить тебе хотя часть по промессу, – обратился он к Агнессе Михайловне.
Та смутилась. Князь этого не заметил.
– Он не может отказать в уплате во документу, – продолжал он далее развивать свою мысль, – можно, наконец, пугнуть его тем, что я продам его Розену. Ты и пугни!
– Но как же я поеду, на какие деньги, ведь на Лахту не близко! – возразила она.
– Получение, по моему, верное, значит можно взять карету взад и влеред, мы поедем вместе, кстати прокатимся – погода сегодня не особенно хороша, дождь, но тем лучше, он дома, а в карете нас не замочит.
– Ты хочешь ехать со мной?
– Да, но к нему я не войду – я подожду тебя у рощи, не доезжая версты от деревни…
Перспектива поездки в карете улыбнулась малодушной Агнессу Михайловне.
«Надо же когда-нибудь решиться заговорить с ним об этом документе, – подумала она, – положение же наше теперь в самом деле, безвыходное».
«А может, он не только отдаст его, но и уплатит часть. Если же не даст по промессу, я сумею выклянчить у него рублей пятьдесят», – мелькнула в ее уме надежда.
Она согласилась ехать. Владимир побежал за каретой, которую и нанял за четыре рубля. Они поехали. Князь, как говорил, вышел из кареты в конце рощи. Дождик, к счастью, перестал. Зыкова поехала далее.
Николай Леопольдович был очень удивлен, увидав остановившуюся у его дачи карету и вышедшую из нее Агнессу Михаиловну, однако, принял ее очень ласково.
Стефания Павловна, порядком скучавшая в этой «чухонской яме», как она прозвала Лахту, даже очень ей обрадовалась. Приезжая застала всех завтракающими на террасе. Ее усадили за стол. Она, впрочем, не могла есть ничего и сидела как на иголках.
– А я к вам, Николай Леопольдович, по делу приехала, переговорить… – наконец высказалась она.
– Пожалуйте! – встал он из-за стола, сказал что-то шепотом жене и пошел в свой кабинет.
Зыкова последовала за ним.
– Ну-с, в чем дело? – спросил он, когда они уселись в кабинете.
– Я думала, я хотела… – запуталась она, – попросить вас, не можете ли вы уплатить мне теперь же часть по промессу…
– По какому промессу? – удивленно-холодным тоном спросил он.
– Как по какому? Который вы выдали мне в десять тысяч рублей.
– Покажите, пожалуйста, мне эту бумагу! Любопытно посмотреть… – небрежно заметил он.
– Но ведь он у вас! Я вам отдала его на сохранение еще зимой… – испуганно заспешила она.
– У меня, – протянул Гиршфельд, – гм! Как же это мной же выданный и неисполненный документ может находиться у меня же?
Он злобно засмеялся. Она глядела на него полным необычайной тревоги взглядом. Он медленно встал, подошел к двери кабинета, отворил ее, внимательно осмотрел соседнюю комнату и запер дверь на ключ, потом подошел к одному из двух окон, бывшему открытым, и затворил его.
– Довольно играть комедию, – подошел он после этого к Агнессе Михайловне, – я не отказываюсь: промесс был у вас, а теперь хранится у меня, но он был выдан вам за то, чтобы вы стояли на моей стороне и влияли в том же смысле на князя. А что вы против меня показывали следователю по наущению и за деньги Розена? Вы думаете, я не знаю…
Он произнес все это злобным шепотом. Она сидела, как приговоренная к смерти. Слезы градом текли из ее глаз, оставляя темные полосы на сильно подкрашенном лице.
– Как же вам не стыдно явиться за документом, нравственное право на получение которого вы потеряли…
Она продолжала плакать молча.
– Не плачьте, – более мягко продолжал он, – если оба дела кончатся благополучно, я выдам вам ваши десять тысяч. Я знаю, что вы дали ваше последнее показание в мою пользу. Повторяю – выдам, но с условием, чтобы вы теперь уже не изменили мне до конца…
– Никогда! – сквозь слезы произнесла она.
– Теперь же, из принципа, в наказание за ваше нахальство, а не дам вам ни гроша… Не говоря уже о промессе – его вы никогда не увидите…
– Но как же нам быть, мы без копейки! – почти простонала она.
– И ездите в каретах! – зло усмехнулся Николай Леопольдович.
– Она не оплачена…
– Вы надеялись на меня… Повторяю, сегодня ни гроша…
Он отпер дверь кабинета, распахнул ее и вышел первый. Она, смущенная, утирая слезы, последовал за ним.
– Прощайте! – резко произнес он, выйдя вместе с ней на террасу.
– А Стефания Павловна?.. – растерянно проговорила она.
– Она ушла гулять с детьми, а потом пройдет к соседям! – ответил он.
Последняя надежда Зыковой перехватить деньжонок у жены Гиршфельда рухнула. Она простилась с Николаем Леопольдовичем и уныло пошла садиться в карету. Карета покатила. Подъехав к роще, по опушке которой прогуливался Шестов, она остановилась. Князь Владимир отворил дверцу и быстро вскочил в карету.
Последняя двинулась снова в путь.
– Сколько? – радостно спросил он, но вдруг остановился, взглянув на заплаканное, полинявшее лицо Агнессы Михайловны.
– Что случилось? – тревожно спросил он.
– Не дал ни гроша и даже не возвратил промесса! – снова заплакала она.
– Как не возвратил промесса, да разве он у него? – крикнул он.
Зыкова созналась ему, прерывая плачем свой рассказ, что она из боязни, чтобы он не передал бумаги Розену, отдала ее на сохранение Гиршфельду, а теперь последний, узнав о ее показаниях, отказался возвратить ее.
– Дура! – захрипел князь.
В карете произошла безобразная сцена, князь ругал на чем стоит Зыкову и даже два раза ударил ее. Она завизжала.
Кучер, услыхав крик, остановился. Шестов опомнился.
– Пошел! – крикнул он кучеру, высунувшись из окна. Он продолжал уже пилить ее тихо.
– Меня променяла… продала… гадина… – шипел Владимир.
Агнесса Михайловна упорно молчала. Наконец приехали в город. Возник вопрос: откуда взять денег для уплаты за карету? Князь уже довольно миролюбиво начал совещаться с Зыковой. Решили ехать к ее матери. Мария Викентьевна обругала их обоих и отказала на отрез.
– Не приготовила я еще денег вам на кареты, аристократы какие подзаборные выискались! – ворчала она.
По счастью, явился «дедушка» Милашевич и выручил из беды.
Шестов, успокоившись по вопросу об извозчике, снова сцепился с Агнессой Михайловной, но Марья Викентьевна выгнала его вон.
Он вызвал на лестницу Антона Максимовича, выклянчил у него два рубля и ушел. Домой он явился поздно ночью, совершенно пьяный и без копейки.
XXI
Повестка
Прошло полтора месяца. Николай Леопольдович уже недели с две как перебрался с дачи на свою петербургскую квартиру. Был седьмой час вечера. В семье Гиршфельдов только что отобедали и, не выходя из столовой, пили кофе Николай Николаевич Арефьев и Зыкова. Разговор, как за последнее время почти постоянно, вертелся на производимом следствии. В передней раздался звонок. Гиршфельд вздрогнул.
– Кто бы это мог быть в такое время? – вслух заметил он, взглянув на часы.
Какое-то тяжелое предчувствие сжало его сердце.
– Вероятно, князь! Он хотел зайти! – вставила Агнесса Михайловна.
Предчувствие Николая Леопольдовича сбылось. Зыкова ошиблась.
Явился местный помощник пристава, который и прошел вместе с хозяином в кабинет. На лице полицейского офицера была написана серьезная сосредоточенность. В столовой все как-то инстинктивно смолкли. Минут через десять помощник пристава с лицом, выражавшим сознание исполненного, хотя и неприятного служебного долга, вышел из кабинета, сделал снова как и при входе, общий поклон всем сидевшим в столовой в удалился, бряцая шпорами. В столовой продолжало царить общее молчание. Из кабинета через несколько минут появился бледный Гиршфельд с бумагой к руке.
– Дождались… к качестве обвиняемого… – глухим голосом произнес он, подавая бумагу Арефьеву.
Она оказалась врученною ему помощником пристава повесткой судебного следователя по важнейшим делам гор. Петербурга о явке через несколько дней для допроса в качестве обвиняемого по 1681 и 1688 статьям уложения о наказаниях.
Николай Николаевич взял повестку, мельком взглянул на нее в иронически улыбнулся.
– Пустяки! Ни с чем отъедут! – хладнокровно произнес он.
Такие следовательские billets deux были для него привычным делом. Николай же Леопольдович был потрясен. В передней вновь раздался звонок.
На этот раз это был Шестов, который быстро, по своему обыкновению, подошел к Гиршфельду.
– Это из-за тебя все, негодяй, подлец! – вдруг вскрикнул последний, и не успел тот опомниться, как он влепил ему две здоровенные пощечины.
Ошеломленный князь обвел окружающих удивленным взглядам.
– Пошел вон, иначе я тебя убью! – не унимался Николай Леопольдович, которого жена и Агнесса Михайловна держали за руки.
Шестов обратился в бегство, ворча про себя ругательства и угрозы.
Лакей Василий, преданный Гиршфельду человек, привезенный им из Москвы, небрежно подал ему пальто. Он за последнее время, зная отчасти положение дел своего барина, не жаловал князя и даже называл его, конечно заочно, прохвостом.
– Каторжник, тебе и в Сибири места мало! – крикнул Владимир из передней.
Не успел он окончить этой фразы, как Василий со всего размаху ударил его по лицу, а затем, ловко схватив за шиворот, вытолкнул за дверь и запер ее на ключ.
– Молодец! – похвалил Василия выскочивший на шум в переднюю и видевший всю эту сцену Арефьев.
Николай Леопольдович сидел на диване в столовой, молчал и тяжело переводил дыхание. После возбужденного состояния, в которое его привело появление князя Шестова, наступила реакция – он совершенно ослаб.
– Послушайте! Да ведь это не ребячество, чего вы как какая-нибудь баба, чуть в истерику не падаете! – стыдил его возвратившийся в столовую Арефьев и рассказал им в передней сцену.
Гиршфельд печально улыбнулся.
– Однако, надо будет с ним помириться, он будет нужен на суде! – сообразил он вслух.
– Эк, хватили, на суде, – усмехнулся Николай Николаевич, – до суда и не дойдет. Разве может такое вопиющее по бездоказательности дело пройти судебную палату не прекращенным…
– Кто знает, на меня здесь злы многие… – сомнительно покачал головой Николай Леопольдович. – С этим миллионным делом Луганского многим я поперек горла встал, – добавил он после некоторой паузы.
– Злы, злы, а ничего не поделают, знаете русскую пословицу: сердит, да не силен.
– Ну, многие из них очень сильны! Вы, Агнесса Михайловна, – обратился он к Зыковой, – уж уговорите князя, чтобы он на меня не сердился… Объясните ему, что я был в таком положении… только что получил это проклятую повестку…
– Уговорю, уговорю, уж будьте покойны!.. – лебезила Зыкова.
– Вы его, самое лучшее, ко мне пришлите, я перед ним извинюсь и Василия заставлю у него попросить прощенья. А ловко он его! – добавил Гиршфельд уже по адресу Арефьева.
– Страсть, как ловко! – захохотал тот.
Уговорить князя Владимира оказалось не трудно, хотя по возвращении Агнессы Михайловны домой, он набросился на нее чуть не с кулаками, как она смела оставаться в том доме, где ему нанесли такое тяжкое оскорбление, и изрекал почти целую ночь и утро по адресу Николая Леопольдовича всевозможные угрозы. На другой день он побежал к барону Розену. Адольф Адольфович знал, какими-то судьбами, ранее прихода Шестова о привлечении Гиршфельда в качестве обвиняемого и потому принял это сообщение своего опекаемого хладнокровно.
– Знаю, знаю даже, что его арестуют.
– Ну! – с злобною радостью воскликнул Владимир, припоминая вчерашнее.
На этом разговор оборвался.
Барон, полагая, что он больше в князе не нуждается, так как следственное дело приняло желательный для него оборот, был с ним очень холоден и на обычную просьбу денег отказал наотрез.
– Что я вам за постоянный кассир, – даже вспылил барон, – умели прожить миллионы, умейте жить и на пятьдесят рублей…
– Ну, вы пожалуйста без наставлений! – вспыхнул в свою очередь князь.
– Прощайте! – кивнул ему Адольф Адольфович и удалился в спальню.
– Чухонец проклятый! – громко проворчал Шестов и вышел из номера Розена.
По возвращении домой он был много сговорчивее вчерашнего, и Зыковой не стоило особенного труда уговорить его поехать мириться с Николаем Леопольдовичем. Примирение состоялось в тот же вечер. Князь не сказал ему ни слова о возможном аресте, так как иначе он должен был рассказать о своем визите к барону, тем более, что Гиршфельд именно и просил его не перебегать уже более на сторону опекуна.
– Поверьте, милейший князь, что я буду для вас полезнее и окажусь благодарнее!
Князь клялся в верности.
– Да чтобы я пошел теперь к этой чухонской морде, – с азартом восклицал он. – Никогда!
– Маленькую помощь вы всегда можете рассчитывать получить от меня и от моей жены! – сказал Николай Леопольдович. – Многого у меня, поверьте – у самого нет! – печально добавил он.
Утром этого же дня он передал Стефании Павловне все деньги и билеты, и она, по его приказанию, отвезла их в банкирскую контору еврея Янкеля Аароновича Цангера на Невском проспекте и положила их на хранение на свое имя.
Цангер был старинный приятель Николая Леопольдовича еще по Москве, где имел тоже банкирскую контору, промышлявшую, как и петербургская, продажею выигрышных билетов в рассрочку. Одно время он даже приглашал Гиршфельда вступить с ним в компанию по ловле в этой мутной воде жирных провинциальных раков, но последний, занятый делами, отклонил это предложение.
– Зачем это? – спросила Стефания Павловна, когда муж отдал ей приказание отвезти деньги и взять квитанцию на свое имя.
– Мало ли что может случиться!
– Что же может случиться? – испуганно поглядела она на него.
– Арестуют! – улыбнулся он.
– Разве могут?
– Пустяки, я шучу! – успокоил он ее. – Делай, что говорят, значит так надо!
Она поехала все-таки встревоженная и, решив отдать Цангеру на сохранение и свои, и детские деньги, захватила и их.
– Не ровен час, отберут! – подумала она. Успокаивая жену, Николай Леопольдович не был искренен.
Мысль о возможности ареста, хотя он и гнал ее от себя, гвоздем сидела в его голове. Он поэтому-то принимал меры и оставил в доме только пять тысяч на расходы. С приближением дня явки к следователю возбужденное состояние Гиршфельда дошло до maximum'a. Ему стыдно было сознаться даже себе: он трусил. Еврейская кровь сказывалась.
Он старался ободрить себя, каждую минуту думал, о предстоящем допросе и тем более расстраивал себе нервы.
Наконец день допроса настал. Николай Леопольдович совершенно больной поехал в окружной суд, в здании которого помещаются и камеры следователей. В приемной комнате, в третьем этаже, с мозаичным полом и скамейками по стенам, ему пришлось дожидаться недолго. Его попросили в камеру, помещающуюся в так называемом «прокурорском» коридоре.
Он называется так потому, что в нем находятся камеры прокурора и его товарищей и только две камеры следователей по важнейшим делам.
Допрос начался. Он продолжался без перерыва несколько часов. Из вопросов, как следователя, так и присутствовавшего товарища прокурора Гиршфельда увидал, что против него собрана масса если не уличающих, то позорящих его данных. Бессильная злоба душила его.
Спокойные лица следователя и представителя обвинительной власти с играющей на них, так ему, по крайней мере, казалось, язвительной улыбкой поднимали в нем всю желчь. Наконец допрос был окончен. Следователь предложил ему подписать протокол.
– Я свободен? – хрипло спросил Николай Леопольдович, – кладя перо на чернильницу.
– Погодите минутку! – мягко сказал следователь и переглянулся с товарищем прокурора.
Гиршфельду показалось опять, что на их лицах появилось выражение ядовитой насмешки.
Следователь стал писать. Писал он около часу. Гиршфельд сидел неподвижно, голова его была страшно тяжела; в виски стучало: перед глазами то появлялись, то исчезали какие-то зеленые круги. Наконец следователь кончил писать и стал читать написанное. Это было постановление об его аресте.
– Потрудитесь подписать.
Николай Леопольдович вскочил, вырвал у судебного следователя перо, бросил его на пол и разразился потоком резкостей по адресу допрашивавших его лиц.
В камере произошел переполох. На усиленные звонки следователя сбежались сторожа, схватили Гиршфельда, с угрожающими жестами наступавшего на товарища прокурора.
Следователь наскоро составил акт об оскорблении его и товарища прокурора в камере при исполнении ими служебных обязанностей. Николай Леопольдович отказался подписать и его.
С помощью явившихся солдат его провели из камеры следователя в «дом предварительного заключения». Между зданием окружного суда и этой образцовой тюрьмой существует внутренний ход. Гиршфельд еще некоторое время продолжал бушевать, но затем вдруг сразу стих, как бы замер.
XXII
В камере
Из нашедшего на него столбняка Николай Леопольдович вышел только через несколько часов уже в одиночной камере дома предварительного заключения. Он дико оглядывался кругом.
Сидел он на железной кровати, покрытой темно-серым байковым одеялом, с двумя подушками в чистых наволочках, в довольно обширной комнате, длинной и казавшейся узкой от почти пятиаршинной вышины ее свода. Стены ее были окрашены аршина на полтора от полу коричневой, а остальное пространство и свод яркою желтою клеевою краскою. Окно, помешавшееся на высоте от полу около четырех аршин, в которое теперь гляделись уже наступавшие осенние сумерки, было большое, квадратной формы, загражденное толстою железною решеткою. Оно находилось в стене, противоположной тяжелой массивной обитой железом двери с небольшим круглым отверстием по середине в верхней ее части, в которое было вставлено стекло. Со стороны коридора это отверстие, производящее впечатление панорамы, было закрыто, так как лишь по временам открываемое чьей-то рукою, оно мелькало на двери светлой точкой. Одно из появлений этой-то светлой точки, мелькнувшее перед глазами Гиршфельда, случайно посмотревшего на дверь, и вывело его из столбняка. Небольшой деревянный лакированный стол и такой же стул дополняя убранство отведенного ему законом жилища.
Николай Леопольдович потер глаза, провел рукой по лбу, как бы не только припоминал, но вглядываясь во все происшедшее с ним до появления его в настоящей обстановке и понял все.
– Слопали! – злобно прошептал он.
Этим возгласом он счел как бы резюмированным свое настоящее положение и мысли его унеслись далеко даже от производимого над ним следствия, приведшего его так неожиданно быстро в тюрьму.



