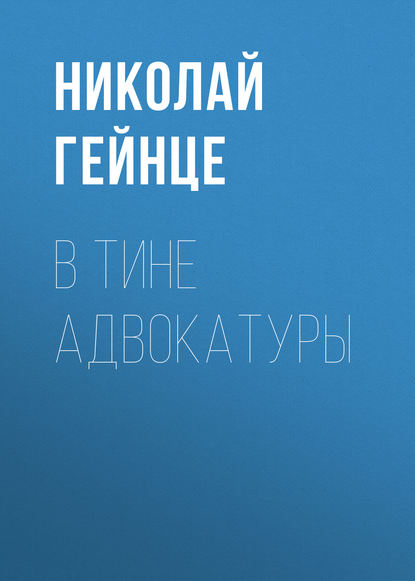 Полная версия
Полная версияВ тине адвокатуры
– А если и женится там на какой-нибудь голой княжне или графине, пусть. Нам за приданым не гнаться стать. Сами капитал десятками миллионов считаем, – говорил Николай Никандрович лицам, выражавшим опасение, что Сергей Николаевич срубит себе дерево не по плечу.
– Да, его тоже не проведешь, очень он у меня умен! – добавлял счастливый отец.
Мать Сергея Николаевича, Домна Семеновна, уже совсем простая, «не полированная», как называл ее муж, женщина, чуть не молилась на своего Сережу.
– Заморская, кажись, принцесса и та ему не под пару, – рассуждала она среди своих многочисленных приживалок.
Этого-то Путилова и наметили в мужья своей старшей дочери Софьи князь и княгиня Гарины.
Княжна Софья Васильевна была худенькая, болезненная, невзрачная блондинка, послушная, безответная, недалекая по уму, но с добрым сердцем. Ей шел уже двадцать пятый год – она, что называется засиделась. Надо, впрочем, сказать, что и ранее на ее руку являлось мало претендентов, а если и были таковые, то они метили на приданое, что далеко не входило в расчеты ее родителей – этих только кажущихся богачей.
– Софи, надо же, наконец, кончить с Путиловым, – сказала княгиня Зоя своей дочери через несколько дней после отъезда сына.
– То есть как кончить, maman, я не понимаю?
– Пора бы понимать, не маленькая…
Софи вспыхнула.
– Или он должен сделать предложение, или же прекратить свои посещения, он, наконец, тебя компрометирует…
Путилов, в самом деле, часто бывал у Гариных и по целым часам беседовал по душе с Софи, которая ему нравилась как терпеливая слушательница, высказывавшая по простоте своей души часто, сама не замечая того, весьма дельные мысли. Сергей Николаевич чувствовал к ней слабость говоруна – он был им, несмотря на свою серьезность. Никакого другого чувства он не испытывал к этой доброй, но некрасивой девушке.
– Что же мне делать, maman? – покорно спросила Софи.
– Что делать, что делать? Всему учить надо. Пококетничать, полюбезничать с ним, позволить поцеловать руку, себя…
– Себя? – вспыхнула Софи.
– Ну да, себя, не растаешь, а там мое дело… – рассердилась княгиня.
– Я попробую… – прошептала дочь.
Совершенно случайно намеченный Зоей Александровной план был выполнен со стороны Софи блистательно. Сергей Николаевич явился как-то после завтрака, au bon courage. Княгиня оставила их с Софи в гостиной. Последняя хотя и не умело, но стала с ним кокетничать. Путилов разнежился, стал целовать ее руки, взял за талию. Софи склонила ему голову на плечо. В дверях появилась княгиня Зоя. Сергей Николаевич быстро отскочил от княжны.
– Ничего, ничего, я давно уже вас люблю как сына, – обняла его Зоя Александровна.
Хмель выскочил из головы Путилова. Он понял, что участь его решена и что надо сделать предложение. Он его и сделал. Мать и дочь выразили согласие. Жениха оставили обедать. Возвратившийся домой князь Василий отечески заключил его в объятия и облобызал. За обедом было подано шампанское и выпито за здоровье жениха и невесты. В этот же вечер Сергей Николаевич сообщил своему отцу о сделанном им предложении и о полученном согласии, умолчав, конечно, об обстановке.
– Что же, с Богом, дело хорошее, фамилия известная, сам истинный вельможа, а какова она – тебе знать, не мне ведь жить с ней… – отвечал Николай Никандрович.
На другой день князь Василий Васильевич первый сделал визит будущему свекру своей дочери и пригласил на завтра к себе на обед, как его, так и его супругу.
– Телом-то жидка больно, Сереженька, да и неказиста! – выразила свое мнение, по возвращении с обеда, Домна Семеновна о своей будущей невестке, любовно глядя на сына.
Тот поморщился от этого замечания.
Через месяц была сыграна скромная, интимная свадьба.
Таково было желание князя Василия и жениха. Тотчас же после венца молодые уехали заграницу. Василий Васильевич успел занять у старика Путилова довольно круглую сумму.
XXXI
Еще жертва
В то время, когда в Петербурге происходили описанные в предыдущих главах события, жизнь наших московских героев шла своим чередом. Дела Николая Леопольдовича Гиршфельда, как одного из московских светил адвокатского мира – так, по крайней мере, чуть не в каждом номере называла его «петуховская газета», были блистательны. По городу то и дело ходили слухи о получении им крупных кушей гонорара, возбуждая зависть начинающих, или же неудачных «софистов XIX века», были ли эти слухи хотя на половину правдивы, или же пускались клевретами и многочисленными агентами Николая Леопольдовича – это было покрыто мраком неизвестности. Смело можно было утверждать лишь одно, что там, где можно было сорвать куш, Гиршфельд не зевал и не давал промаха. С этим были согласны, как сторонники Николая Леопольдовича, так и его антагонисты. В пример приводили следующий бывший в его адвокатской практике факт: ямщики московской Ямской слободы обратились к нему с просьбой принять на себя хлопоты по сложению с них накопившейся за много лет недоимки, образовавшей очень солидную сумму. Николай Леопольдович очень ловко заключил с ними условие об уплате ему гонорара в десять тысяч рублей, «в случае если недоимка окажется сложенной», отправился в канцелярию городской думы, и там узнал, что недоимка эта уже сложена с них несколько месяцев тому назад, взял копию с постановления думы и, по смыслу условия, получил десять тысяч. Прибавляли, что Гиршфельд ранее заключения условия знал о положении дела о недоимке, состоя, как московский домовладелец, гласным думы. Несмотря, впрочем, на такое легкое срывание значительных кушей, положение его дел вообще и состояние его духа в описываемое нами время было из незавидных.
Понятие «о незавидном» положении дел, было, конечно, относительно. Другой, менее алчный, чем Николай Леопольдович, сохраненное им до сих пор, за выдачею Петухову, Сироткиной и за постоянными громадными тратами на Пальм-Швейцарскую, состояние считал бы богатством и благословлял бы свою судьбу, но Гиршфельд воображал себя обобранным и разоренным, прикидывая в уме, сколько бы было у его, если бы не явились в его кассу непрошенные загребистые лапы. Несмотря на то, что к чести Петухова и Сироткиной надо сказать, что они не беспокоили более Николая Леопольдовича денежными требованиями, он все же время от времени предавался сожалению об отданных им кушах. Ему хотелось, кроме того, чтобы все эти его подневольные траты пали на счет его доверителя, князя Владимира Шестова, и чтобы из его состояния осталась бы и ему львиная доля. Этого, после последовавшей выдачи полумиллиона княгине Анне, и при продолжающихся усиленных и прогрессивно увеличивающихся требованиях громадных сумм самим князем Владимиром, легко устроить не предвиделось, хотя молодой князь до сих пор беспрекословно подписывал не читая всевозможные акты и расписки по указанию Гиршфельда. Юридически последний мог бы, конечно, в неделю обставить дело так, что иголочки не подточишь, но князь при уменьшении, выдач мог поднять скандал и произошла бы огласка, чего пуще огня боялся Николай Леопольдович.
«Надо устроить все келейно, мирком да ладком!» – мечтал он в тиши своего кабинета.
«Как?» – восставал в его уме вопрос.
Обдумыванием его то и был занят за последнее время Гиршфельд.
План уже начал было слагаться в его изобретательной в этом смысле голове, когда одно обстоятельство заставило отложить не только приведение его в исполнение, но даже отделку деталей в долгий ящик. Флегонт Никитич Сироткин, как будто бы дожидался только видеть своего сына в возможном для него почетном положении, и недели через две после того, как Иван Флегонтович сделался адвокатом, а жена его артисткой лучшего театра в Москве, слег в постель и отдал Богу душу. Причиною его смерти была сильная простуда, схваченная им при поездке с Николаем Ильичем Петуховым на рыбную ловлю в прорубях. Старик, впрочем, до самой смерти своей не верил в свою простудную болезнь.
– Пустое, просто смерть пришла, и где тут у вас простудиться, ишь невидаль морозы, мы в тайге на снегу спали, а мороз бывало градусов под пятьдесят, а то и ровно, а тут что, тьфу, а не морозы!
После старика остался капитал в двадцать тысяч рублей, и завещание, по которому все он оставлял своим внучатам.
После похорон отца с Иваном Флегонтовичем случился первый запой, который и стал повторяться через весьма короткие промежутки. Прежде он любил выпить в компании, но был, по русской пословице, «пьян да умен, два угодья в нем», теперь же он забросил адвокатуру и пил почти без просыпу. Несчастная Стеша натерпелась от него много горя. Вечно пьяный муж требовал постоянно водки или денег на нее, лез в драку в случае отказа, а иногда прямо колотил ее, без всякой видимой причины, а просто по пьяной фантазии. Она только и отдыхала у Николая Леопольдовича, к которому почти искренно привязалась, и он платил ей, на сколько это было в его натуре, взаимностью. Ему жаловалась она на зверское обращение с ней мужа, и он как мог старался ее утешить.
– Хоть бы он сгинул поскорей и меня освободил! – стала наконец зачастую восклицать выведенная из терпения Стефания Павловна.
– И сгинет, долго не протянет при таком пьянстве, – уверял ее Николай Леопольдович.
Вскоре, впрочем, ему пришлось вместе с нею искренно разделять это желание. Несмотря на принятые со стороны Гиршфельда предосторожности не пускать пьяного Сироткина в его дом, он однажды, по недосмотру прислуги, с заднего крыльца забрался в кабинет к Николаю Леопольдовичу.
К счастью, тот был один.
– Не пускать… меня не пускать… – заплетающимся языком начал кричать Иван Флегонтович, – адвокат, важная птица, подумаешь.
Он тыкал в Гиршфельда пальцем.
– А хочешь… я тебя сдуну, возьму и сдуну, от жены на тебя бумагу получу и сдуну… Пойдешь ты у меня соболей ловить… То-то, а ты… не пускать, меня не пускать!.. А травить людей умеешь?
Он погрозил ему пальцем, приняв возможно величественную в его положении позу.
Николай Леопольдович, услыхав этот страшный для него пьяный бред, побледнел, как мертвец, и еле удержался на ногах. Он призвал на помощь все свое самообладание, постарался всеми силами успокоить непрошенного гостя, сам вывел его от себя и, усадив его на извозчика, отправил домой.
– То-то, уважай! – повторил ему несколько раз Иван Флегонтович, когда он сводил его под руку с лестницы и усаживал на извозчика.
Вернувшись домой, Гиршфельд тотчас же распорядился послать за Стефанией Павловной, написав ей коротенькую записку. Она вскоре явилась. Он усадил ее на диван и дрожащим от волнения голосом передал ей только что устроенную ее мужем сцену.
– Зачем же ты, Стеша, солгала мне тогда, что он ничего не знает?
– Не хотела причинять тебе лишнего беспокойства, в трезвом виде, да бывало и выпив – он могила, кто же знал, что с ним стрясется такая беда.
– Как хочешь, Стеша, ангел мой, ты меня спаси! – со слезами на глазах упал перед не он на колени.
– Да как же я тебя спасу, милый мой? – с искренним сожалением воскликнула она. – Бумагу отдать, так ведь этим ему рот не завяжу…
Гиршфельд так растерялся, что даже не воспользовался предложением Стеши возвратить ему подлинную исповедь, и продолжал глядеть на нее умоляющим взглядом.
– О, хоть бы он сгинул! – прошептала Стеша.
– И пусть сгинет, пусть сгинет, – ухватился он за эту мысль, – дорогая, неоцененная моя, пусть сгинет.
– Да ведь без Божьей воли ничего не случится… – развела она руками.
– Можно, Стеша, я тебе дам, подлей… несколько капель… – хриплым, прерывающимся шепотом начал он.
– Не говори, не продолжай! – вскочила с дивана и как-то дико вскрикнула она. – Мне и так последние ночи все снится княжна Маргарита.
Он упал головой на подушки дивана и зарыдал. Успокоившись немного, она подошла, села снова на диван около его головы и молча дала ему выплакаться. Наконец, он вскочил на ноги, вытер глаза и несколько раз прошелся по кабинету.
– Хорошо! – остановился он перед ней. – Скажи мне откровенно, ты была бы довольна, если бы он умер?
– То есть как? – уставилась она боязливо на него.
– Ну, например, утонул что-ли…
– Сам?
– Сам не сам, но… как будто сам…
Стеша молчала.
– Пойми, Стеша, что тут нужно выбирать между мной и им, если он до послезавтрашнего утра будет жив, я пущу себе пулю в лоб…
Стеша вздрогнула. В его голосе звучала правда.
– Отвечай же?
– Делай, как знаешь! – махнула она рукой. – Но, а если ты попадешься? – добавила она шепотом.
– Я тут не причем. Это будет случайность… Только слушай! Где он теперь?
– Дома, спит… Я его уложила и поехала к тебе.
– Задержи его завтра до двенадцати часов, а к двенадцати за ним заедут.
– Кто?
– Князев и Гарин.
Стеша колебалась.
– Неужели нельзя обойтись без этого? – робко задала она вопрос.
– Нет, или он, или я… Помни, Стеша! Согласна?
– Хорошо! – чуть слышно отвечала она.
– Так поезжай же, моя прелесть! – обнял он ее и крепко поцеловал.
Стефания Павловна уехала.
Александр Алексеевич Князев, фамилию которого упомянул Гиршфельд при разговоре с Сироткиной, был один жз преданнейших клевретов Николая Леопольдовича. Это был высокий, полный, атлетически сложенный блондин, с редкими волосами на голове, но за то густыми, длинными усами. Он когда-то служил в военной службе, прокутил до нитки отцовское достояние, вышел в отставку и с тех пор не имел определенных занятий, питаясь перед встречей с Николаем Леопольдовичем писанием разного рода просьб темному люду, для чего и бродил около Иверских ворот и слонялся по коридору окружного суда, не брезгуя и прошением милостыни pour le panvre officier… Гиршфельд, умевший различать людей, с год уж как пригрел его, поставил на приличную ногу, отвел ему комнату в своем доме и даже платил жалованье, хотя не давал ему почти никакого занятия, кроме редкой переписки бумаг. Он берег его для экстренных случаев, не сомневаясь в его преданности ему. Князев буквально благоговел перед своим благодетелем, хотя, по требованию Николая Леопольдовича, при посторонних, держал себя совершенно независимо. Александр Алексеевич был человек способный на всякое как геройское дело, так и преступление, стоило ему посулить, или еще лучше дать денег на кутеж, и для него не было ни в чем слова; нельзя. Вино и водку он истреблял в огромном количестве, но почти никогда не пьянел.
После ухода Стефании Павловны, Гиршфельд приказал позвать к себе в кабинет Александра Алексеевича. Он оказался дома и не замедлил явиться, одетый во все черное. Гиршфельд спокойно объяснил ему, какого рода услугу он от него ожидает, заметив вскользь, что Сироткин мешает его любовной интриге с Стефанией Павловной.
– Вот вам радужная в задаток, послезавтра будет другая, если все обойдется благополучно, только чур, завтра сделать дело, а не пропадать из дому, – подал ему он кредитку.
Князев только укоризненно посмотрел на Николая Леопольдовича и сунул бумажку в карман.
– Вы пригласите с собой Гарина, но он не должен ничего знать. Немножко выкупается – это не беда. Понимаете?
– Понимаю, и в лучшем виде обделаю, будьте покойны, такого мозгляка, как Сироткин, я отшвырну сажени на две – теперь половодье, лодку опрокинем у берега, напоим мы его до положения риз – он и не почувствует, как у прапраотца Адама, не проспясь очутится, – цинично захохотал Князев.
Дня через два после этого разговора во всех московских газетах появилось известие о катастрофе, происшедшей на Москве-реке, у Воробьевых гор. Газеты передавали, что в ночь на 15 мая 188* года, князь Виктор Васильевич Гарин, отставной поручик Александр Алексеевич Князев и частный поверенный Иван Флегонтович Сироткин, возвращаясь с рыбной ловли и находясь в сильно нетрезвом виде, выехав на середину реки, по неосторожности опрокинули лодку и упали в воду. На их крики о помощи подоспели крестьяне деревни Потылихи, и двое из находившихся в лодке: князь Гарин и Князев были спасены, третий же Сироткин, утонул и труп его до сих пор не найден. Сильно разложившийся труп Ивана Флегонтовича, только около двух недель спустя, был усмотрен прибитым к берегу реки, верст за пять от Москвы.
Все эти дни Гиршфельд и Стефания Павловна провели в тревожном состоянии ожидания, что вот, вот Иван Флегонтович явится перед ними живой. К рассказу Князева Николай Леопольдович все таки относился с некоторым недоверием, хотя и уплатил ему обещанные деньги. Наконец, труп был найден, привезен в Москву и после формальностей вскрытия, передан Стефании Павловне. Она устроила мужу богатые похороны и, казалось, была потрясена этой утратой.
XXXII
Свадьба
Прошло около трех месяцев. Николай Леопольдович провел их почти в постоянном беспокойстве. Это беспокойство происходило от более чем странного, загадочного поведения относительно его Стефании Павловны Сироткиной.
После похорон мужа она около месяца почти совершенно не бывала у Гиршфельда, а если и заезжала, то всегда на минуту, с каким-то растерянным видом, спеша к детям, к сиротам, как она с особым ударением называла их. Затем, хотя посещения ее участились, но она все-таки была совсем другая, нежели прежде, и Николай Леопольдович уловил несколько брошенных ею не него взглядов, сильно его обеспокоивших. Из них он заключил, что она на что-то решилась, но это «что-то» скрывает от него.
«Что с ней делается? – задавал он себе вопрос. – Или мне только кажется – это все моя проклятая подозрительность. Нет, не может быть, я слишком хорошо знаю людей, она что-то задумала».
Такие, или в таком роде, разговоры вел он сам с собою – почти ежедневно.
Ежедневно также ожидал он, что она наконец выскажется. Ожидания его не сбывались. Он решился наконец заговорить об этом первый.
– Скажи мне, моя дорогая, что с тобой, ты совсем переменилась ко мне и видимо не искренна со мной? – спросил он ее в одно из их свиданий наедине.
– Я! – смутилась она. – Кажется я все такая же.
– Нет, ты что-то скрываешь от меня, но очень неискусно, и это делает тебе честь. Между нами не должно быть тайн.
– Если так, изволь, я скажу тебе, – встрепенулась она; – мне кажется с некоторых пор, что ты меня совсем не любишь, что ты даже никогда не любил меня.
– Что за мысли, чем я тебе показал это, не тем ли, что почти три месяца мучаюсь и волнуюсь от твоей холодности…
– А разве у меня не может появляться мысль, что это твое беспокойство относится не лично ко мне, а к находящемуся у меня в руках документу?
Николай Леопольдович побледнел, что не ускользнуло от нее.
– Я почти уверена, что это так… – с горечью продолжала она.
– Уверяю тебя, что я даже забыл думать об этой бумаге! – деланно-небрежным тоном сказал спохватившийся Гиршфельд.
– Этому-то я не поверю, – ядовито улыбнулась она.
– Напрасно!
– Ничуть, и я докажу тебе сейчас твоими собственными поступками. Если бы ты любил лично меня, разве ты стал бы продолжать со мной эту преступную связь. Я понимала ее, когда я была не свободна, а теперь… – Она в упор поглядела на него. Он понял этот ясный намек и закусил губу.
– Ты знаешь хорошо мои взгляды на брак… я никогда не женюсь…
– Если так, если ты меня не любишь настолько, чтобы поступиться для меня этими взглядами, то нам надо расстаться…
– Расстаться!.. Ты с ума сошла!
– Непременно, я это решила давно, вот именно это-то я от тебя и скрывала. У меня дети; они подрастут, какой пример подам я им!?
Она остановилась.
– Какие пустяки, кто внушил тебе подобные мысли?
– Не ты? – бросила она ему.
– Уж конечно! – усмехнулся он.
– Я и решила, что лучше расстаться нам теперь, хотя я, и не отказываюсь, люблю тебя, искренно за это время привязалась к тебе, решилась даже для тебя на преступление.
Он вздрогнул при этом воспоминании.
– Но, видно, я твоей-то любви не заслужила, не стою… Прощай!
Она встала и подошла к столу за шляпкой.
– Куда же ты? – с тревогой в голосе спросил он.
– Куда? К детям, к сиротам…
– Когда же ты придешь?
– Никогда.
– Не мучь меня, скажи, что ты шутишь! – загородил он ей дорогу.
– Нет, не шучу, я говорю совершенно серьезно.
– Как же я?
– Как ты? Жил без меня и проживешь, Бог даст, – усмехнулась она.
Он с тревогой глядел на нее; видимо было, что он хотел что-то спросить у нее и не решался. Она угадала его мысли.
– Поверь мне, что я лично исполню свято мое слово об исповеди княжны; если же я выйду замуж, то тогда это будет дело моего мужа. От второго мужа у меня тайн не будет.
– Нет, нет, я не могу расстаться с тобой! – бросился он к ней. – Я буду этим твоим вторым мужем.
– Ты так долго медлил, что я бы вправе теперь отказаться, – улыбнулась она довольной улыбкой, – но я, так и быть, согласна. Моим свадебным подарком будем тебе исповедь княжны Маргариты.
– Не думаешь ли ты, что я из-за нее решаюсь жениться на тебе? – вспыхнул он.
– Я не хочу этого думать, – уклончиво отвечала она.
Через неделю, в присутствии только двух шаферов, Князева и князя Гарина, в церкви Св. Бориса и Глеба, что на Арбатской площади, совершилось бракосочетание присяжного поверенного Николая Леопольдовича Гиршфельда с вдовою канцелярского служителя Степанидой Павловной Сироткиной. Дети Стеши были заранее перевезены в дом Николая Леопольдовича. Туда же из церкви отправились и молодые. Приехавшие с ними шафера, выпив по бокалу шампанского, удалились по своим комнатам. Стеша с мужем остались одни.
– Велим подать себе чай и ужин в кабинет, как тогда, помнишь, первый раз… – прошептала она.
Он позвонил и распорядится.
Они прошли туда.
Она вынула из кармана подлинную исповедь княжны Маргариты Дмитриевны Шестовой, зажгла ее на свечке, бросила в камин и быстро потушила свечи и лампы.
– Что ты делаешь?
– Я хочу, чтобы наше первое законное уединение освещала именно эта рукопись – неисчерпаемый источник беспокойства для тебя за твое доброе имя, и для меня за искренность твоей любви.
Синеватое пламя, охватившее пожелтевшие листки, осветило страстный, искренний поцелуй новобрачных.
Не находя возможным появиться среди своих московских знакомых с своей женой, которую большинство из них знало, как камеристку покойной княгини Зинаиды Павловны Шестовой, Николай Леопольдович решил переехать в Петербург, что вполне сообразовалось с тем планом, который он не привел в осуществление вследствие выходки первого мужа его настоящей супруги. В течении месяца он ликвидировал все свои дела, продал дом и переехал на жительство со своей семьей в Северную Пальмиру, оставаясь присяжным поверенным московского округа. За ним последовал только один Александр Алексеевич Князев. Князь Виктор Гарин не решился покинуть Москвы – резиденции его кумира – Александры Яковлевны Пальм-Швейцарской.
Часть четвертая
В Архангельскую губернию
Ничего не будет нового,Если завтра у негоНа спине туза бубновогоМы увидим… Ничего!Н. НекрасовI
Аристократка
Громадный, тенистый, вековой парк, обнесенный массивною железною решеткою, почти совершенно скрывал от взоров прохожих и проезжающих по одной из отдаленнейших улиц города Москвы, примыкающей к Бутырской заставе, огромный барский каменный дом с многочисленными службами, принадлежащий графине Варваре Павловне Завадской. Даже зимой сквозь оголенные деревья парка, этот вековечный памятник отживающей старины и барства, окрашенный в беловато-серую краску, с громадным подъездом под массивным фронтоном, едва был доступен для взоров любопытных.
Подобного рода обширные городские усадьбы еще и теперь, хотя редко, встречаются на окраинах Белокаменной, где пока не всякий вершок городской земли перешел в руки спекулятивных строителей, ухитряющихся чуть не на ладони строить Эйфелевы башни с тонкими, дрожащими от уличной езды стенами и множеством квартир «со всеми удобствами». Для домохозяев, прибавим мы вскользь.
Широкая густая аллея вела к подъезду дома от литых чугунных ворот, на чугунных же столбах которых возвышались два огромных фонаря, зажигавшиеся лишь несколько раз в год, в высокоторжественные дни; обыкновенно же в девять часов вечера эти массивные ворота уже запирались. В главном доме, вмещавшем в себе целые амфилады с старинной мебелью, бронзой и коврами, жила, окруженная многочисленными приживалками и десятками мосек, шелковистых пинчеров и болонок – восьмидесятилетняя графиня Варвара Павловна Завадская, урожденная княжна Шестова.
Она была родной сестрой покойных князей Александра и Дмитрия Павловичей и следовательно родной теткой покойных же княжен Маргариты и Лидии Дмитриевны и благополучно здравствующего князя Владимира Александровича Шестова. Но так как графиня давно уже прекратила всякие не только родственные, но даже отношения простого знакомства с своими братьями, то племянники и племянницы не только никогда не видали ее, но даже едва ли подозревали существование своей близкой родственницы.



