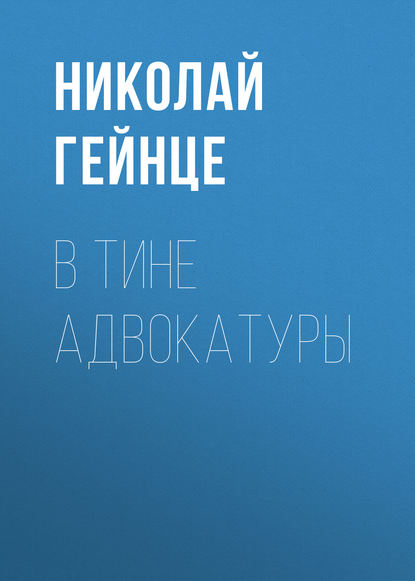 Полная версия
Полная версияВ тине адвокатуры
– Я тебя разорил! – прошептал он.
– Меня? – побледнела она даже под румянами.
– Тебя, моя дорогая, ненаглядная, тебя, за которую я готов отдать всю жизнь, у ног которой я готов умереть, и я умру, умру, мне ничего больше не остается делать.
Быстрым движением вынул он из кармана револьвер и приставил его к виску.
– Несчастный, что ты делаешь? – вскрикнула она, бросилась к нему и с силою выхватила из его рук револьвер.
– Дай мне умереть здесь, около тебя, не гони!.. – продолжал Николай Леопольдович, казавшийся совершенно обессиленным.
Слезы градом лились из его глаз.
– Кто тебя гонит?! Ты сошел с ума! Успокойся, говори толком. Твоя жизнь дороже мне всех моих денег. Неужели ты этого не знаешь, безумный!
Он схватил ее руки и покрыл их поцелуями, орошая слезами. Она стала перед ним на колени и обвив его голову руками, начала целовать его в заплаканные глаза.
– Милая, дорогая, хорошая! – шептал он.
– Успокойся же, мой милый, и расскажи в чем дело! – нежно сказала она, встала и налила ему стакан аршаду – напиток, который она пила постоянно вместо воды.
Николай Леопольдович выпил и отер слезы.
– У меня было куплено на триста две тысячи твоих денег акций этого проклятого Ссудного банка, который вдруг рухнул.
– Боже мой! Какое несчастье!
– Несчастье! – горько улыбнулся он. – Хуже – позор! Позор для меня, не предусмотревшего этот крах. До последнего дня они шли на бирже на повышение и вдруг…
Гиршфельд снова зарыдал.
– Значит нельзя было и предусмотреть, это просто несчастье и никакого нет позора! – мягко начала она, увидав, как принял он к сердцу вырвавшееся у нее восклицание.
– Нет, нет, позор, я не перенесу того, что заставил безумно любимую мною женщину потерять такую сумму.
– Не убивайся, дорогой, а лучше скажи, что делать? – уже совсем нежно прервала его она.
– Что делать? Ничего. Умереть!
– Опять за свое.
Она заставила выпить его еще стакан аршаду.
– И неужели мы ничего по ним не получим?
– Ничего, я уже собрал эти дни справки; впрочем, может быть, это дело суда, но питать какие-либо надежды не следует.
– А деньги княжны? – вдруг спросила княгиня. Нельзя ли перевести на ее имя мои акции, хоть тысяч сто.
– Нельзя! – покачал головой Николай Леопольдович.
– Почему?
– Она потеряла на этих же акциях все свои двести тысяч.
Губы Зинаиды Павловны сложились в нечто, похожее на улыбку.
– А деньги сына? – с дрожью в голосе продолжала она.
– Целы, слава Богу, все до копейки. Есть даже лишних, тысяч сто, или около этого.
– Сколько же теперь осталось у меня денег?
– Немного более полутораста тысяч, ведь ты знаешь, что ты брала из капитала.
– Но ведь это нищета, мне нечем будет жить, придется уехать в деревню! – с отчаянием сказала она.
Он вздрогнул.
– Нет, не придется, не придется даже ни в чем стеснять себя.
Она вопросительно посмотрела на него.
– За кого же ты меня принимаешь? Неужели ты думаешь, что я когда-нибудь позабуду, что ты спасла мне жизнь? Я твой раб и работник до гроба. Я отказываюсь, во-первых, от моего жалованья, а во-вторых – я много зарабатываю и теперь, я надеюсь на большее – я буду выплачивать тебе проценты на потерянные по моей оплошности деньги и понемногу погашать капитал. Значит, ты, если бы я не сказал тебе все откровенно, и не догадалась бы о потере. Все должно идти по-прежнему. Если ты не согласишься, я покончу с собой, если не здесь, так в другом месте.
– Милый, хороший, – обняла она его, – согласна! Мне ведь и деньги-то нужны для того, что быть с тобой, нравиться тебе. Конечно, я привыкла к роскоши, привыкла мотать, но что же делать, это вторая натура.
– И тебе не надо будет ее насиловать.
– После моей смерти ведь все же твое. Сын достаточно богат, что я о нем заботилась. Я хотела даже переговорить с тобой о завещании в твою пользу.
– Не надо, не надо, не смей и думать об этом! – заволновался Николай Леопольдович.
– Почему? – удивилась она.
– А потому, что после твой смерти мне никаких денег не нужно: я тебя не переживу. Я живу и дышу только тобой! – привлек он ее к себе.
– О чем же было убиваться? На наш век хватит, а после нас… Apres nous le déluge! – улыбнулась разнежившаяся княгиня.
– Я попрошу тебя только об одном, – спокойным голосом начал он, – не говори ничего княжне, что она потеряла все свое состояние.
– А разве ты ей не скажешь! Положим, теперь ее нет дома, она собиралась куда-то выехать после обеда, но завтра…
Николай Леопольдович, как бы невзначай, вынул часы: приближался час назначенного с княжной свидания.
– Нет, я постараюсь возвратить ей эти деньги. У меня есть несколько дел с крупным гонораром в будущем. Еще неизвестно, как взглянет на все это она и ее доктор, с которым она переписывается чуть не каждый день. Могут поднять историю и скомпрометировать меня. Ты, конечно, этого не захочешь?
– Хорошо, – согласилась она, – я не скажу ей ни слова.
Ей было это очень неприятно. Разделение общего горя с близким человеком умеряет его тяжесть. Сознание, что другой близкий человек также несчастлив, составляет почему-то сладкое утешение в несчастьи. Недаром говорит пословица; на людях и смерть красна.
Успокоившийся мало-помалу Николай Леопольдович просидел еще около получаса с княгиней, рассыпаясь перед ней в благодарности и признаниях в вечной страстной любви и, наконец, уехал, совершено обворожив ее своим рыцарским благородством и чувствами.
Револьвер она ему не отдала.
– Я сохраню его на память об этом, сказали бы многие, несчастном, а для меня счастливейшем дне моей жизни, когда я вполне узнала и оценила тебя… – сказала она, обнимая его в последний раз.
«Хороший револьвер! Двадцать два рубля стоит», – думал Гиршфельд, усаживаясь в сани.
XIV
Выгодный денек
Княжна уже более получаса ожидала Николая Леопольдовича.
Входя на лестницу квартирки, в переулке, прилегающем к Пречистенке, он придал себе снова расстроенный вид.
– Я думала, что ты уже совсем не приедешь… – встретила его Маргарита Дмитриевна.
– Дела задержали, нас постигло большое несчастье.
– Какое? – побледнела она.
– Мы потеряли в акциях этого проклятого банка двести тысяч рублей. Я после разговора с тобой о деньгах, оставшихся после сестры, поместил их в эти бумаги, увлекшись их быстрым повышением на бирже. Они стояли твердо до последнего дня, когда вдруг банк лопнул и ворох накануне ценных бумаг превратился в ничего нестоящую макулатуру. Я сначала этому не верил, но сегодня получил точные справки.
– Значит, я потеряла все мои деньги! – с отчаянием в голосе крикнула княжна и буквально упала в одно из кресел.
На губах Николая Леопольдовича появилась злая усмешка.
– Ничуть, – начал он, отчеканивая каждое слово, – я потерял мои деньги, если ты не хочешь принять первую мою редакцию: «наши». Твои деньги я могу возвратить тебе хоть завтра все до копейки.
– Виновата, я обмолвилась! – смешалась она.
– Я бы просил тебя так на будущее время не обмолвливаться, если ты хочешь продолжать вести со мной наше дело! – тем же резким тоном заметил он.
– А княгиня, она, конечно, ничего не потеряла! – переменила она разговор, подчеркнув слово «конечно».
Николай Леопольдович понял шпильку и улыбнулся.
– Конечно, ничего, но это не помешало мне быть сейчас у нее и уверить ее, что она потеряла на акциях этого банка триста две тысячи рублей. Таким образом, мы нажили на этом деле сто две тысячи. Надеюсь, что в этом случае ты ничего не будешь иметь против этого «мы»? – в свою очередь уколол он ее.
– Какой ты злой! – улыбнулась она, совершенно успокоенная.
– Как же приняла это известие княгиня? – спросила она, когда Гиршфельд сел в кресло.
В коротких словах передал он проделанную им у княгини сцену с револьвером.
Княжна смеялась от души.
– Можно было проделать тоже самое и с частью денег князя Владимира, – сообразила она вслух.
– Нет, моя дорогая, нельзя, да и не зачем. Поспешишь – людей насмешишь, совершенно справедливо говорит русский народ. Княгиня очень боится опекунской ответственности. Деньги князя от нас не уйдут, но надо их заполучить в собственность с умом и осторожно. Подумаем – надумаемся.
Князь Владимир, громадный капитал которого служил предметом страстных вожделений и упорных помышлений этих двух современных бандитов, уже несколько лет как вышел из реального училища Вознесенского. Провалившись на экзамене после двухлетнего пребывания в одном и том классе, он, по правилам училища, должен был оставить его. Княгиня отдала его в другой московский пансион, где он стал готовиться для поступления в Александровское военное училище. Из тщедушного черномазенького мальчика он превратился в высокого, не по летам худого долговязого юношу. Ему шел семнадцатый год. У матери он бывал лишь по праздникам и то не на долго, проводя свое время с товарищами в далеко не детских удовольствиях. Ранние кутежи и попойки наложили на его лицо свой роковой отпечаток. Цвет его лица был зеленовато-бледный, глаза горели каким-то лихорадочным огнем. Учился молодой князь очень плохо, но в том пансионе, где он находился, мало обращали внимания на успехи в науках сынков хорошо платящим богатых родителей и несмотря на это, все питомцы этого заведения, пробившие в нем несколько лет баклуши, всегда попадали каким-то чудом в те специальные заведения, куда готовились. В самом пансионе юношам была предоставлена полная свобода действий. Уходили они из заведения и возвращались в него не спрашиваясь ни у кого. Великовозрастным ученикам такие порядки были на руку, и это оригинальное учебно-воспитательное заведение сделалось убежищем всех изгнанных из других училищ маменькиных сынков. Князь Владимир был кумиром своих кутящих товарищей. Хотя княгиня давала ему очень небольшие карманные деньги, но его главным тароватым казначеем был Гиршфельд, а потому юный князь всегда имел в своем распоряжении, сравнительно с другими своими товарищами, довольно крупные суммы, которые и тратил с княжескою щедростью. Николай Леопольдович поставил себя с молодым князем на дружескую ногу, выслушивал с интересом его похождения, пикантные анекдоты, заводил сам разговор на те или другие игривые темы, извращая еще более уже и так испорченное воображение юноши, не сдерживая его, но, напротив, толкая вперед по скользкому пути кутежа и разврата, иногда даже и сам принимая в этих княжеских кутежах благосклонное участие. Они были даже на ты. Молодой князь был без ума от своего друга и руководителя элегантного адвоката, и мечтал о том времени, когда, достигнув совершеннолетия, он, в гвардейском мундире, будет кутить вместе с Гиршфельдом в Петербурге, куда он стремился всей душой. Зинаида Павловна была в восторге от такой близости ее сына к ее любовнику. Николай Леопольдовича смотрел на юношу как на будущего своего выгодного клиента, который возвратит ему сторицею те сравнительно небольшие суммы, которыми он покупал восторженную любовь молодого князя.
Беседа Гиршфельда с княжной Маргаритой продолжалась уже в более миролюбивом духе. Николай Леопольдович сказал ей, чтобы она ни единым словом не проговорилась княгине о том, что она знает о потере всего своего состояния, передав ей свой разговор с Зинаидой Павловной по этому поводу.
– Я надеюсь получить от нее на твою долю хоть малую толику! – заметил он.
Наконец княжна уехала, во всем согласившись со своим сообщником. Николай Леопольдович завернул на минуту в квартиру Петухова.
– Самого, конечно нет? – спросил он, не снимая шубу, у вышедшей в переднюю жены Николая Ильича.
Вездесущего репортера дома не оказалось.
– Попросите его зайти ко мне завтра утром на квартиру! – сказал он ей.
– Хорошо-с, хорошо-с, непременно передам, – торопливо ответила Матрена Семеновна (так звали жену Петухова).
Это была безличная, худенькая, бледная женщина. Николай Леопольдович простился с ней, быстро сбежал с лестницы, бросился в сани и крикнул кучеру.
– Домой!
Лошади понеслись.
Он вздохнул полною грудью.
– Уф, даже устал, – прошептал Гиршфельд, – но и хороший за то выдался мне сегодня денек.
День в самом деле был для Николая Леопольдовича выгодный – он нажил ни более, ни менее как полмиллиона и превратил княжну Маргариту Дмитриевну Шестову в свою содержанку, приковав ее к себе самою, по его мнению, надежною цепью – денежной.
XV
Живоглот
Московский Демосфен таким образом был прав, сказав, что княгиня и княжна Шестовы потеряли на акциях Ссудно-коммерческого банка полмиллиона. Надо, впрочем, заметить, что у Николая Леопольдовича, создавшего из своих легковерных доверительниц таких крупных потерпевших по грандиозному делу, не было в его несгораемом сундуке ни одного экземпляра акций лопнувшего банка. По счастливой случайности, он в нем даже не держал никогда и вкладов. Надо было добыть нужные бумаги на громадную, заявленную княгине и княжне, сумму. Для того-то Николай Леопольдович и вызвал к себе Николая Ильича Петухова. Последний утром следующего дня не заставил себя ждать. Как только Гиршфельд проснулся, ему доложили, что в приемной дожидается Петухов. До начала адвокатского приема оставался еще слишком час, и Николай Леопольдович, приказав подать себе и явившемуся гостю чаю, велел позвать ее в спальню, а сам продолжал лениво потягиваться в своей роскошной постеле, Через несколько минут в дверях спальни появилась робко ступавшая по мягкому ковру своей бархатной походкой фигура Николая Ильича.
Это был невысокий, плотный мужчина с сильно поседевшими когда-то черными волосами, которые обрамляли на голове довольно густой бахромой громадную, почти во весь череп лысину, а над губами и на подбородке образовали усы и французскую бородку. Щеки были не особенно тщательно выбриты. Цвет лица и громадной лысины был сплошь темно-красноватый, что смягчало резкость этого же цвета на носу, указывавшем на нередкое поклонение его владельца богу Бахусу. Одет он был в черный, сильно потертый сюртук, из-под которого виднелись брюки с лоснящимися коленками и сильно обитыми низками, лежавшими на порыжевших сапогах. В красных, грубых руках с короткими пальцами он держал мягкую войлочную шляпу.
Таков был репортер Петухов.
На всех встречавшихся с ним первый раз Николай Ильич своей фигурой, своим внешним обликом производил впечатление человека, прошедшего, как принято говорить, огонь и воду и медные трубы. Это первое впечатление и не было ошибочным. До того времени, когда он сам пристегнул себя к русской журналистике, сначала в качестве газетного отметчика полицейских происшествий, а затем кропателя сценок, рассказов и даже фельетониста, Петухов прошел массу разнообразных специальностей, перепробовал много разнородных занятий. Начал он свою карьеру сидельцем питейного заведения во времена канувшего в вечность откупа, содержал потом, сколотив на этой скромной должности небольшой капиталец, свой маленький трактир, но прогорел вскоре на этом предприятии. От юности своей любил Николай Ильич водить компанию с ученою молодежью и эта-то ученая молодежь; – студенты, сообщившие некоторый лоск и даже некоторую долю знаний любознательному сыну народа, помогли ему выпустить в трубу его скромное заведение, где им был открыт широкий кредит, который они, само собою разумеется, не оправдали. В Москве было много лиц судебного персонала и присяжных поверенных, которые во времена своего студенчества водили с Петуховым компанию и были виновниками быстрого закрытия его трактирчика. Около года провел Николай Ильич в страшной борьбе с наступившей нищетой. К этому времени относится и эпизод из его жизни, о котором он не любил вспоминать. Он, под гнетом безвыходного положения, решился изображать в одном из балаганов под Новинским на маслянице дикого человека, причем загримированный индейцем, на глазах публики глотал живую рыбу, терзал и делал вид, что ест живых голубей. Какая-то пьяная купеческая компания случайно разоблачила обман, сильно избила доморощенного индейца, а затем накачала его водкой на мировую, и с тех пор среди купечества за ним осталась кличка «живоглот», за которую он очень сердился. К концу этого злополучного года, он решился сделаться литератором. Он начал писать мелкие заметки из московской жизни и в особенности из нравов знакомого ему, по прежней деятельности, серого московского купечества. Написал и издал даже томик своих «питейных» стихотворений. Он обладал природной наблюдательностью, писал языком понятным для массы и имел среди выходящих из нее невзыскательных читателей сравнительный успех. Это был своего рода самородок и самородок не без таланта.
Одним из препятствий на избранном им литературном поприще служила его полуграмотность. Остряки рассказывали, что он в слове «еще» ухитрялся делать четыре ошибки и писал «есче». Ненавистную ему букву «е» он на самом деле совал всюду, и даже слово «пес» писал через нее, что послужило поводом для одного московского юмористического журнала ответить ему в почтовом ящике: «собаку через „е“ пишете, а в литературу лезете». Николай Ильич, однако, не унывал, а лез и влез. Много терний пришлось ему встретить и на этом новом пути. Обличенные им купцы не оставались в долгу и не раз бивали они «литератора», мазали ему лысину горчицей и проделывали с ним всевозможные штуки, подсказанные пьяною фантазией расходившихся самодуров. Николай Ильич стоически переносил эти «неприятности писателя» и шел неуклонным путем обличений.
Купцы присмирели, стали даже его побаиваться и охотно платили ему контрибуцию под угрозой магического слова: «пропечатаю». Юная, едва окрепшая гласность была тогда еще для многих страшным пугалом. Это было темное прошедшее Николая Ильича.
В то время, к которому относится наш рассказ, Петухов был уже фельетонистом, хотя и не покидал выгодной репортерской деятельности. Он издал книжку своих рассказов и имел довольно громкое имя в газетном мире, сделался заправским литератором, что, впрочем, не мешало ему собирать дань с купечества, но сравнительно более крупную. На Нижегородской ярмарке, которую он посещал ежегодно, с ним случались, как носились слухи, подчас прежние «неприятности» и дружеские столкновения между ним и обличаемыми, но они кончались выгодным для «литератора» примирением и не предавались гласности. Купцы любили Николая Ильича. Он подходил к их пьяным вкусам, умел позабавить компанию. Вся Москва была ему знакома. Со всем купечеством, со всей полицией он был на дружеской ноге.
Светлою чертою в личности Николая Ильича была его любовь к семье, состоящей из знакомой нам жены и двух детей, сына и дочери, из которых первый учился в гимназии. У него же жила свояченица, сестра жены, старая дева, заведывающая его маленьким хозяйством, так как его жена была болезненной женщиной, постоянно лечившейся.
Николай Ильич нес все свои доходы в дом, отказывая себе, во всем, даже в приличном костюме. Доходы эти были не из крупных, а потому Петухов не брезговал заработать лишний рубль и на других, до литературы отношения неимеющих, делах.
Заветною его мечтою было сделаться когда-нибудь «ледахтором», как своеобразно произносил он это слово.
XVI
Странное поручение
– Будущему редактору! – приветствовал Николая Ильича Гиршфельд, протягивая руку из-под одеяла.
Он знал его слабую струнку.
Тот сложил губы в почтительную улыбку и благоговейно дотронулся до руки адвоката.
– Николаю Леопольдовичу, как ваше драгоценное?
– Ничего, живем хорошо, ожидаем лучше.
– Подавай вам, Господи. По делу-с изволили требовать?
– Да, по делу, по большому делу.
– Все, что в силах, сделаем. Для вас, вы знаете, в огонь и в воду.
– Знаю, знаю, и кажется, меня нельзя упрекать в неблагодарности и на будущее время я плательщик хороший.
– Истинное слово сказали. Отсохни у меня язык, если я осмелюсь противоречить.
– Проведете это дело хорошо и вам будет хорошо.
– В чем же дело-то-с? – навострил уши Петухов.
– Мне надо добыть акций Ссудно-коммерческого банка на пятьсот две тысячи рублей.
Николай Ильич вытаращил глаза.
– Это вам зачем же-с? Ведь они теперь медного гроша не стоят.
– Надо. Если говорю, значит надо.
Петухов задумался.
– Купить хотите? – вопросительно поглядел он.
– Ну, да, конечно, купить, но только купля купле рознь. Если я объявлю, что намерен купить акций на полмиллиона, то дела рухнувшего банка могут поправиться и ничего не стоящие сегодня бумаги, завтра пойдут в гору.
– Пожалуй, что так! – согласился Николай Ильич.
– Конечно, так, но этого мне не надо. Мне желательно приобрести их по возможно сходной цене. Смотря по цене, вы получите с каждой штуки комиссионные – я уж не обижу. В счет могу дать вперед сотняжку.
Петухов просиял было, но вдруг лицо его омрачилось.
– Задача не легкая, – покачал он головой, – как приступить к делу и не придумаешь.
– С умом, батенька, приступить надо, под строгим секретом. Прежде всего протрубить в газетах, что акции эти ничего не стоять, что по ним не будет ничего получено, а потом понемногу начинать скупать, направляя желающих продать к Вурцелю. Он в своем кабинете эти дела и обделает. Знакомство у вас есть. Каждого продавца надо припугнуть, чтобы он держал эту продажу в тайне, а то-де собьют цену. Теперь благо еще паника не прошла. Поняли?
– Понял-с, понял-с, и золотая у вас голова-с! – улыбался во весь рот Николай Ильич.
– Значит, по рукам.
– По рукам-с! – протянул он ему свою красную руку. Тот ударил по ней своею.
Лакей внес чай и удалился.
Петухов сидел на кончике стула и пил с блюдечка, по-купечески. Он, видимо, погружен был в обдумывание порученного ему дела.
Николай Леопольдович, наскоро выпив свой стакан, вскочил с постели, надел шитые золотом туфли, накинул бархатный темно-синий халат, вынул из под подушки связку ключей и прошел в кабинет.
От задумавшегося Николая Ильича не ускользнул звук отпираемого железного шкафа и шелест ассигнаций. По его лицу разлилась довольная улыбка. Замок шкапа щелкнул и в спальне снова появился Гиршфельд.
– Вот вам и авансик! – подал он Петухову радужную.
– Очень вам благодарен! – вскочил тот на ноги и даже присел от удовольствия.
Быстро спрятал он бумажку в боковой карман сюртука.
– Так действуйте осторожно, но возможно скорей… – заметил Гиршфельд тоном, дающим знать, что аудиенция кончена.
– Рад стараться, – осклабился Николай Ильич и стал прощаться.
После его ухода Николай Леопольдович оделся. Начался прием, а по его окончании он поехал в «Кабинет совещаний и справок», помещавшийся в одной из отдаленных улиц Москвы. Приказав своим лошадям проехать за ним прямо в окружный суд, он нанял извозчика. Подъехав к неказистому деревянному домику он не вошел в подъезд, над которым красовалась вывеска «кабинета», а проскользнул в калитку, ведущую во двор.
Поднявшись на лестницу черного хода, он постучал в обитую зеленой клеенкой с оборванным по краям войлоком дверь.
На его стук дверь отпер сам Андрей Матвеевич Вурцель, уже пожилой человек, с седыми щетинистыми усами и небритым несколько дней подбородком, одетый в засаленный военный сюртук без погон.
Посещение Николая Леопольдовича с заднего крыльца, видимо обычное и нередкое, ничуть не удивило Вурцеля.
Он почтительно принял блестящего адвоката и проводил его в комнату, служившую ему кабинетом и спальней, плотно притворив дверь, ведущую в переднюю половину квартиры, где помещалась контора.
Гиршфельд, сбросив свою дорогую шубу на постель Андрея Матвеевича, в коротких словах объяснил ему цель своего посещения и предстоящую ему деятельность по скупке акций лопнувшего банка.
Вурцель серьезно выслушал Николая Леопольдовича. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он не выразил ни малейшего удивления странной фантазии своего патрона.
– Хорошо, это нужно будет аккуратно оборудовать! – ответил он деловым тоном.
– Пожалуйста, уж постарайтесь! – пожал ему на прощанье руку Гиршфельд и, накинув шубу, вышел тем же путем.
В числе экипажей, стоявших на круглом дворе здания судебных установлений, стояли уже и его американские сани. В суде он старался и сам распространять известие, что по акциям лопнувшего банка получить будет ничего нельзя. Он с удовольствием узнал, что почти все разделяют это мнение. Разговор коснулся потерпевших лиц, имевших капитал именно в акциях. Он назвал своих доверительниц и крупную сумму их потери. Это произвело сенсацию между адвокатами. Они с завистью посматривали на поверенного таких крупных потерпевших. В числе потерпевших назвали, между прочим, директора реального училища Константина Николаевича Вознесенского, потерявшего на акциях около двадцати тысяч.
– Это потеря части нажитых упорным и усидчивым трудом денег, – заметил рассказчик.

