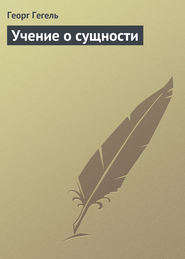 Полная версия
Полная версияУчение о сущности
А. Отношение целого и частей
1. Существенное отношение содержит в себе, во-первых, рефлектированную в себя самостоятельность осуществления; таким образом, это отношение есть простая форма, определения которой хотя и суть также осуществления, но вместе с тем суть положенные, содержащиеся в единстве моменты. Эта рефлектированная в себя самостоятельность есть вместе с тем рефлексия в ее противоположность, а именно в непосредственную самостоятельность; и ее устойчивость есть по существу также ее собственная самостоятельность, тожество с ее противоположностью. А именно тем самым непосредственно положена во-вторых и другая сторона; непосредственная самостоятельность, определенная, как другое, есть многообразие внутри себя, но так, что это многообразие имеет в нем по существу также отношение другой стороны, единство рефлектированной самостоятельности. Одна сторона, целое, есть самостоятельность, которую образовал сущий в себе и для себя мир; другая сторона, части, есть то непосредственное осуществление, которым оказался являющийся мир. В отношении целого и частей обе стороны суть эти самостоятельности, но так, что каждая из них содержит в себе видимость другой и вместе с тем есть лишь это тожество обеих. А так как существенное отношение есть прежде всего лишь первое, непосредственное, то в нем отрицательное единство и положительная самостоятельность соединены посредством также; обе стороны, правда, положены, как моменты, но равным образом и как осуществленные самостоятельности. Что обе они положены, как моменты, это распределяется между ними так, что, во-первых, целое, рефлектированная самостоятельность, как осуществленная и сама, и в ней другая сторона, есть непосредственное, как момент; здесь целое образует единство обеих сторон, их основу, и непосредственное осуществление есть положение. Наоборот, с другой стороны, именно со стороны частей, непосредственное, многообразное внутри себя осуществление есть самостоятельная основа; напротив, рефлектированное единство, целое, есть лишь внешнее отношение.
2. Это отношение содержит в себе таким образом самостоятельность сторон, а равным образом их снятие, и то и другое просто в одном внешнем отношении (Beziehung). Целое есть самостоятельное, части суть лишь моменты этого единства; но, равным образом, они суть также самостоятельные, и их рефлектированное единство есть лишь некоторый момент; и каждая сторона есть в своей самостоятельности просто относительное другой. Поэтому это отношение есть в нем самом непосредственное противоречие и снимает себя.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что целое есть рефлектированное единство, имеющее для себя самостоятельную устойчивость; но эта устойчивость равным образом оттолкнута от единства; целое есть отрицательное единство, отрицательное отношение к себе самому; таким образом оно отчуждено от себя; оно имеет свою устойчивость в своем противоположном, в многообразной непосредственности частей. Поэтому целое состоит из частей, так что оно не есть нечто без них. Оно есть таким образом все отношение и самостоятельная полнота; но именно по этому основанию оно есть лишь отрицательное, ибо то, что делает его полнотою, есть собственно его другое, части; и оно имеет свою устойчивость не в себе самом, а в своем другом.
Так и части суть равным образом все отношение. Они суть непосредственная самостоятельность в противоположность рефлектированной и не находятся в целом, но суть для себя. Далее они имеют в них это целое, как свой момент; он составляет их отношение; без целого нет частей. Но так как они суть самостоятельное, то это их отношение есть лишь некоторый внешний момент, к которому они в себе и для себя безразличны. Но вместе с тем части совпадают внутри себя самих, как многообразное осуществление, ибо последнее есть чуждое рефлексии бытие; они имеют свою самостоятельность лишь в рефлектированном единстве, которое есть как это единство, так и осуществленное многообразие; т. е. они имеют самостоятельность лишь в целом, которое, однако, есть вместе с тем другая относительно них самостоятельность.
Поэтому целое и части взаимно себя обусловливают; но вместе с тем рассмотренное здесь отношение стоит выше, чем взаимное отношение обусловленного и условия, как это последнее отношение определилось ранее. Это отношение здесь реализовано; а именно положено, что условие есть существенная самостоятельность обусловленного в том смысле, что эта самостоятельность предполагается обусловленным. Условие, как таковое, есть лишь непосредственное и предположено лишь в себе. Целое же есть хотя и условие частей, но в нем самом вместе с тем содержится непосредственно, что и оно есть лишь постольку, поскольку его предположением служат части. Поскольку таким образом обе стороны отношения положены, как взаимно обусловливающие одна другую, каждая есть в ней самой непосредственная самостоятельность, но их самостоятельность равным образом опосредована или положена через другую. Все отношение есть через эту противоположность возврат обусловленности в себя саму, есть не-относительное, безусловное.
Поскольку же каждая из сторон отношения имеет свою самостоятельность не в самой себе, а в своем другом, то дано лишь одно тожество обеих; в котором обе они суть моменты; но так как каждая в ней самой самостоятельна, то они суть два самостоятельных осуществления, безразличные одно относительно другого.
С первой точки зрения – существенного тожества этих сторон – целое равно частям, и части равны целому. Нет ничего в целом, чего не было бы в частях, и нет ничего в частях, чего не было в целом. Целое не есть отвлеченное единство, но единство некоторого различного многообразия; но это единство, как то, в чем многообразное взаимно к себе относится, есть его определенность, стало быть, часть. Таким образом отношению свойственно нераздельное тожество и лишь одна самостоятельность.
Но далее целое равно частям; однако не им, как частям; целое есть рефлектированное единство, части же составляют определенный момент или инобытие единства и суть различное многообразное. Целое равно им, не как этому самостоятельному различному, но как им в совокупности. Но их совокупность есть не что иное, как их единство, целое, как таковое. Таким образом целое равно в частях лишь самому себе, и равенство его и частей означает лишь то тожесловие, что целое, как целое, равно не частям, а целому.
Равным образом части равны целому; но так как они суть в них самих момент инобытия, то они равны целому, не как единству, а так, что одно из его многообразных определений присуще частям, иначе, что они равны ему, как многообразному; т. е. они равны ему, как разделенному на части целому, т. е. как частям. Тем самым дано такое же тожесловие, именно, что части, как части, равны не целому, как таковому, но равны в нем себе самим, частям.
Таким образом целое и части безразлично выпадают одно из другого; каждая из этих сторон относится лишь к себе. Но взятые так одно вне другого они сами себя разрушают. Целое, безразличное к частям, есть отвлеченное, неразличимое внутри себя тожество; последнее есть целое, лишь как различаемое внутри себя самого и притом так, что эти многообразные определения рефлектированы в себя и обладают непосредственною самостоятельностью. А тожество рефлексии обнаружило через свое движение, что его истина есть эта рефлексия в его другое. Равным образом части, как безразличные к единству целого, суть лишь лишенное отношения многообразное, другое внутри себя, которое, как таковое, есть другое себя самого и лишь снимающее себя. Это отношение к себе каждой из обеих сторон есть их самостоятельность; но эта самостоятельность, которую каждая имеет для себя, есть скорее отрицание их самих. Поэтому каждая имеет свою самостоятельность не в ней самой, а в другой; эта другая, составляющая собою устойчивое, есть ее предположенное непосредственное, долженствующее быть первым и ее началом; но это первое каждой стороны само лишь таково, что оно есть не первое, а имеет свое начало в другом.
Истина отношения состоит, таким образом, в опосредовании; его сущность есть отрицательное единство, в котором равно снимаются и рефлектированная, и сущая непосредственность. Отношение есть противоречие, возвращающееся в свое основание, в единство, которая, как возвращающееся, есть рефлектированное единство; но поскольку последнее положило себя также, как снятое, то оно относится отрицательно к себе самому, снимает себя и делает себя сущим непосредственным. Но это его отрицательное отношение, поскольку оно есть первое и непосредственное, есть лишь опосредованное через его другое и также нечто положенное. Это другое, сущая непосредственность, есть также лишь снятое; его самостоятельность есть первое, но лишь как исчезающее, и имеет существование, которое положено и опосредовано.
В этом определении отношение уже не есть отношение целого и частей; непосредственность, которую имели его стороны, перешла в положение и опосредование; каждая из них положена, поскольку она непосредственна, как снимающая себя и переходящая в другую; и поскольку она есть сама отрицательное отношение, – также как обусловленная другою, как ее положительным; равно как ее непосредственный переход есть также опосредование, именно некоторое снятие, положенное другою. Таким образом, отношение целого и частей перешло в отношение силы и ее обнаружения.
Примечание. Выше, по поводу понятия количества, была рассмотрена антиномия бесконечной делимости материи. Количество есть единство непрерывности и дискретности; оно содержит в самостоятельном одном свое совпадающее с другим течение и в этом без перерыва продолжающемся тожестве с собою – также и его отрицание. Так как непосредственное отношение этих моментов количества выражается в существенном отношении целого и частей, количественного одного, как части, к его непрерывности, как целого, состоящего из частей, то антиномия состоит в противоречии, проявившемся и разрешенном в отношении целого и частей. А именно целое и части настолько же относятся между собою существенно и образуют лишь одно тожество, насколько они взаимно безразличны и обладают самостоятельною устойчивостью. Отношение есть поэтому эта антиномия в том смысле, что один момент тем самым, что он освобождается от другого, непосредственно приводит за собою другой.
Таким образом, если осуществленное определено, как целое, то оно имеет части, и части составляют его устойчивость; единство целого есть отношение лишь положенное, внешнее сопоставление, несоответствующее самостоятельно осуществленному. Поскольку же последнее есть часть, то она не есть целое, не есть сложное, а, стало быть, есть простое. Но так как отношение к некоторому целому ей внешне, то это отношение не соответствует последнему; поэтому самостоятельное в себе не есть также часть; ибо оно есть самостоятельное лишь через это отношение. Но так как самостоятельное не есть часть, то оно есть целое, ибо дано лишь это отношение целого и частей, и самостоятельное есть одно из двух. А так как оно есть целое, то оно опять-таки сложно; оно состоит из частей и так далее до бесконечности. Эта бесконечность состоит не в чем ином, как в постоянной смене обоих определений отношения, в которой каждое непосредственно возникает из другого так, что положение каждого есть его собственное исчезание. Материя, определенная, как целое, состоит из частей, и в них целое становится несущественным отношением и исчезает. Но часть, взятая так для себя, также есть не часть, а целое. Если ближе сопоставить антиномию этого умозаключения, то получается собственно следующее: так как целое не есть самостоятельное, то самостоятельное есть часть; но так как последняя самостоятельна лишь без целого, то она самостоятельна, не как часть, а скорее, как целое. Возникающая тут бесконечность процесса сводится к неспособности привести к согласию обе мысли, которые содержатся в этом опосредовании, так что каждое из обоих определений через его самостоятельность и отделение от другого переходит в несамостоятельность и в другое.
В. Отношение силы и ее обнаружения
Сила есть отрицательное единство, в котором разрешается противоречие целого и частей, истина этого первого отношения. Отношение целого и частей есть бессмыслица, в которую ближайшим образом впадает представление; или понимаемое объективно оно есть мертвый механический агрегат, правда, имеющий определения формы, через которые многообразия его самостоятельных материй соотносятся между собою в некотором единстве, но это единство им внешне. Отношение же силы есть высший возврат в себя, в котором единство целого, составлявшее отношение самостоятельного инобытия, перестает быть внешним и безразличным к этому многообразию.
Как существенное отношение определилось теперь, непосредственная и рефлектированная самостоятельности внутри его положены, как снятые или как моменты, которые в предыдущем отношении были устойчивыми для себя сторонами или крайними терминами. В этом содержится, во-первых, то, что и рефлектированное единство, и непосредственное существование, поскольку они оба суть первые и непосредственные, снимаются в себе самих и переходят в их другое; первое, сила, переходит в ее обнаружение, а внешнее есть нечто исчезающее, возвращающееся в силу, как в свое основание, и есть лишь постольку, поскольку оно носится и полагается ею. Во-вторых, этот переход есть не только некоторое становление и исчезание, но отрицательное отношение к себе, или, иначе, то, что изменяет его определение, и тем самым рефлектировано в себя и сохранено; движение силы есть не столько некоторый переход, сколько состоит в том, что она сама себя переводит (übersetzt) и в этом положенном через саму себя изменении остается тем, что она есть. В-третьих, это рефлектированное, относящееся к себе единство, само есть снятое и момент; оно опосредовано своим другим и имеет последнее своим условием; его отрицательное отношение к себе, которое есть первое, и с которого начинается движение его перехода из себя, также имеет предположение, коим оно возбуждается (sollicitirt wird), и другое, с которого оно начинает.
а. Обусловленность силы
Рассматриваемая в своих ближайших определениях сила имеет, во-первых, в ней момент сущей непосредственности. Она же сама определена напротив, как отрицательное единство; но последнее в определении непосредственного бытия есть некоторое осуществленное нечто. Нечто, так как оно есть отрицательное единство, как непосредственное, является, как первое, сила же, так как она есть рефлектированное, – как положение и потому как принадлежащее осуществленной вещи или некоторой материи. Сила не есть форма этой вещи, и вещь не определяется через нее; вещь, как непосредственное, безразлична к ней. В вещи по этому определению нет основания иметь какую-либо силу; напротив, сила, как сторона положения, имеет своим существенным предположением вещь. Если, спрашивается поэтому, каким образом вещь или материя приходит к тому, чтобы иметь некоторую силу, то последняя является внешне связанною с ними и внедренною в вещь посредством некоторой внешней мощи.
Как эта непосредственная устойчивость, сила есть вообще покоящееся определение вещи, не нечто обнаруживающееся во вне, но нечто непосредственно внешнее. Так, сила обозначается также, как материя, и вместо магнетической, электрической и т. д. силы принимается магнетическая, электрическая и т. д. материя; или вместо пресловутой притягательной силы, тонкий эфир, который связывает все. Это материи, в которые разлагается бездеятельное, бессильное отрицательное единство вещи и которые были рассмотрены выше.
Но сила содержит в себе непосредственное осуществление, как момент, как нечто такое, что хотя и есть условие, но преходящее и снимающееся, следовательно, не как осуществленная вещь. Сила есть далее не отрицание, как определенность, но отрицательное рефлектирующее себя в себя единство. Вещь, которой должна бы была быть присущею сила, тем самым не имеет здесь никакого значения; сама сила есть скорее положение внешности, являющейся, как осуществление. Она не есть также только некоторая определенная материя; такая самостоятельность уже давно перешла в положение и в явление.
Во-вторых, сила есть единство рефлектированной и непосредственной устойчивости или единства формы и внешней самостоятельности. Она есть та и другая в одном; она есть соприкосновение таких сторон, из коих одна есть, поскольку нет другой; тожественная себе и положительная и отрицаемая рефлексия. Сила есть, таким образом, отталкивающее себя от самого себя противоречие; она деятельна; или, иначе, она есть относящееся к себе отрицательное единство, в котором положена рефлектированная непосредственность или существенное бытие внутри себя, лишь как снятое или как момент, поскольку тем самым она отличает себя от непосредственного осуществления, в которое она переходит. Таким образом, сила положена, как определение рефлектированного единства целого, как становящееся из себя самого осуществленным внешнее многообразие.
Но, в-третьих, сила есть лишь сущая в себе и непосредственная деятельность; она есть рефлектированное единство, а также по существу его отрицание; так как она отлична от последнего, но есть также лишь тожество ее самой и ее отрицания, то она существенно относится к последнему, как некоторая чуждая ему непосредственность, и имеет его своим предположением и условием.
Но это предположение не есть некоторая противостоящая ей вещь; эта безразличная самостоятельность снята в силе; как условие последней, это некоторое другое относительно силы самостоятельно. А так как оно не есть вещь, но самостоятельная непосредственность определила здесь себя вместе с тем, как относящееся к себе самому отрицательное единство, то оно само есть сила. Деятельность силы обусловлена сама собою, как своим другим, как некоторою силою.
Таким образом сила есть отношение, в коем каждая сторона есть то же, что и другая. В отношении находятся силы и притом они относятся взаимно существенно. Далее они ближайшим образом вообще лишь различны; единство их отношения есть пока лишь внутреннее сущее в себе единство. Таким образом обусловленность другого силою есть в себе действие самой силы; иначе сказать оно есть вследствие того лишь предполагающее, лишь отрицательно относящееся к себе действие; эта другая сила находится еще вне ее полагающей деятельности, т. е. непосредственно в своем определении возвращающейся в себя рефлексии.
b. Возбуждение (Sollicitation) силы
Сила обусловлена, так как содержащийся в ней момент непосредственного осуществления есть лишь положенное, но там он вместе с тем есть непосредственное, то предположенное, в коем сила отрицает себя саму. Предлежащая силе внешность есть поэтому самая ее собственная предполагающая деятельность, которая ближайшим образом положена, как некоторая другая сила.
Далее это предположение взаимно. Каждая из обеих сил содержит в себе рефлектированное в себя единство, как снятое, и потому есть предполагающее; она полагает саму себя, как внешнее; этот момент внешности есть ее собственный; но так как она есть также рефлектированное в себя единство, то она вместе с тем полагает эту свою внешность не в себе самой, но как другую силу.
Но внешнее, как таковое, есть снимающее само себя; далее рефлектирующая себя в себя деятельность относится по существу к этому внешнему, как к своему другому, но также, как к уничтоженному в себе и тожественному ей. Так как предполагающая деятельность есть равным образом рефлексия в себя, то она есть снятие этого своего отрицания и полагает последнее, как себя саму или как свое внешнее. Таким образом, сила, как обусловливающее, есть толчок для другой силы, относительно которой первая деятельна. Ее отношение не есть пассивность определяемости, так чтобы в нее входило нечто другое, но толчок лишь возбуждает (sollicitirt) ее. Она есть в самой себе своя отрицательность, отталкивание себя от себя в свое собственное положение. Ее действие состоит поэтому в том, чтобы снять внешность этого толчка; она делает эту внешность некоторым простым толчком и полагает ее, как собственное отталкивание самой себя от себя, как свое собственное обнаружение.
Обнаруживающая себя сила есть, таким образом, то, что ранее было лишь предполагающею деятельностью, – именно то, что делает себя внешним; но сила, как обнаруживающая себя, есть вместе с тем отрицающая внешность и полагающая ее, как свою деятельность. Поскольку же в этом рассуждении начинают с силы, какова она есть, как отрицательное единство себя самой и тем самым как предполагающая рефлексия, то в результате получается то же самое, как если бы в обнаружении силы начинали с возбуждающего толчка. Таким образом сила в ее понятии определяется прежде всего, как снимающее себя тожество, а в их реальности – одна из обеих сил, как становящаяся возбуждающею, другая же, как становящаяся возбуждаемою. Но понятие силы есть вообще тожество полагающей и предполагающей рефлексии или рефлектированного и непосредственного единства, и каждое из этих определений – просто лишь момент в единстве и тем самым опосредованный через другое. Но равным образом ни в одной из находящихся во взаимном отношении сил не дано определения, которая из них становится возбуждающею или возбуждаемою, или, правильнее сказать, каждой из них одинаково присущи оба определения. Но это тожество есть не внешнее тожество сравнения, а некоторое существенное их единство.
А именно, одна из сил определена ближайшим образом, как возбуждающая, другая же, как возбуждаемая; эти определения формы являются, таким образом, непосредственными, данными в себе отличениями обеих сил. Но они по существу опосредованы. Одна из сил возбуждается; этот толчок есть некоторое извне положенное в нее определение. Но сила сама есть предполагающее; она по существу есть рефлектирующее себя в себя и снимающее то определение, по коему толчок есть нечто внешнее. Что она возбуждена, это есть поэтому ее собственное действие, или, иначе, ею самою определено, что другая сила есть вообще другая и возбуждающая. Возбуждающая сила относится к своей другой отрицательно, снимая ее внешность, и потому она есть полагающая; но она такова лишь при том предположении, что ей противоположна некоторая другая сила; т. е. она сама есть возбуждающая, лишь поскольку в ней есть некоторая внешность, стало быть, поскольку она есть возбуждаемая. Или, иначе, она есть возбуждающая, лишь поскольку она возбуждается к тому, чтобы быть возбуждающею. Тем самым, наоборот, первая становится возбуждаемою, лишь поскольку она сама возбуждается второю возбуждать ее, т. е. первую. Каждая из обеих сил получает таким образом, толчок от другой; но толчок, даваемый ею, как действующею, состоит в том, что она получает толчок от другой; получаемый ею толчок возбуждается ею самою. То и другое, даваемый и получаемый толчок, или деятельное обнаружение и пассивная внешность, суть поэтому не нечто непосредственное, но опосредованное, и именно каждая из обеих сил есть тем самым сама та же определенность, какую имеет относительно нее другая, опосредована другою, и это опосредывающее другое есть опять-таки собственное определяющее положение первой.
Таким образом то, что происходит толчок силы от некоторой другой силы, что первая тем самым хотя и относится пассивно, но вновь переходит от этой пассивности к активности, есть возврат силы в себя саму. Она обнаруживает себя. Обнаружение есть реакция в том смысле, что оно полагает внешность, как свой собственный момент, и тем самым снимает то, что она возбуждается некоторою другою силою. То и другое есть поэтому одно и то же, как то обнаружение силы, через которое она сообщает себе посредством своего отрицательного действия на саму себя существование для другого, так и бесконечный возврат к себе в этой внешности, через который она относится лишь к себе. Предполагающая рефлексия, которой принадлежит обусловленность и толчок, есть поэтому также непосредственно возвращающаяся в себя рефлексия, и деятельность есть по существу реагирующая, направленная против себя. Положение толчка или внешнего само есть его снятие, и, наоборот, снятие толчка есть положение внешности.



