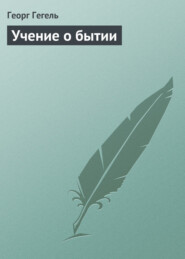 Полная версия
Полная версияУчение о бытии
α. Таким образом нечто есть непосредственно относящееся к себе существование и имеет границу прежде всего в отношении к другому, которая есть небытие другого, а не самого нечто; последнее в своей границе ограничивает свое другое. Но другое само есть вообще нечто; следовательно граница, которую имеет нечто в отношении к другому, есть граница другого, также как нечто, граница того, чем отстраняет от себя первое нечто, как свое другое, т. е. она есть небытие этого нечто; таким образом она есть не только небытие другого, но небытие как того, так и другого нечто, небытие нечто вообще.
Но она есть также существенно небытие другого, так что нечто вместе с тем есть вследствие своей границы. Поскольку нечто есть ограничивающее, оно, правда, низводится к тому, чтобы самому быть ограниченным; но его граница, как прекращение другого в нем, есть вместе с тем сама лишь бытие нечто; последнее есть посредством нее то, что оно есть, имеет в ней свое качество. Это отношение есть внешнее явление того, что граница есть простое или первое отрицание, другое же есть вместе с тем отрицание отрицания, бытие внутри себя нечто.
Итак, нечто есть, как непосредственное существование, граница в отношении к другому, но оно имеет ее в нем самом и есть нечто чрез посредство того, что есть также его инобытие. Оно есть то опосредование, чрез которое нечто и другое настолько же суть, как и не суть.
β. Поскольку же нечто в своей границе есть и не есть, и эти моменты представляют собою непосредственное, качественное различие, то несуществование и существование нечто внешним образом распадаются. Нечто имеет свое существование вне (или, как это себе также представляют, внутри) своей границы; равным образом и другое, поскольку оно есть нечто, есть вне ее. Она есть средина между ними, в которой они прекращаются. Они имеют существование по ту сторону одно другого, начиная от их границы; граница, как небытие каждого из них, есть другое в отношении к каждому.
В силу такого различия нечто от его границы, линия является линиею лишь вне своей границы, точки, поверхность – поверхностью вне линии, тело – телом лишь вне ограничивающей его поверхности. С этой точки зрения, на которой прежде всего останавливается представление, – на вне себя бытии понятия, – обсуждают преимущественно и пространственные предметы.
γ. Но далее нечто, как сущее вне границы, есть нечто неограниченное, лишь существование вообще. Таким образом оно не отличается от своего другого; оно есть лишь существование, следовательно имеет одинаковое определение со своим другим, каждое из них есть лишь нечто вообще, или каждое есть другое, т. е. оба суть одно и то же. Но это их ближайшим образом непосредственное существование положено с определением границы, с которою оба суть то, что они суть, – т. е. отличающиеся между собою. Но она есть равным образом общее им различие, их единство и различие, как и существование. Это двойное тожество обоих их, существование и граница, приводит к тому, что нечто имеет свое существование лишь в своей границе, и что, поскольку граница и непосредственное существование оба вместе суть отрицания друг друга, нечто, сущее лишь в своей границе, равным образом отделяется само от себя и указывает за собою на свое небытие, причем высказывает его, как свое бытие, и таким образом переходит в него. В применении к предыдущему примеру можно сказать, что некоторое определение, нечто, есть то, что оно есть, лишь в своей границе; таким образом, например, точка есть граница линии, не только в том смысле, что последняя кончается в первой и имеет существование вне ее; линия есть граница поверхности, а поверхность – тела не только в том смысле, что последние кончаются в первых. С точки линия также и начинается; первая есть безусловное начало второй; даже если линия в обе свои стороны продолжена безгранично или, как нередко выражаются, бесконечно, то точка составляет ее элемент, как линия – элемент поверхности, поверхность – элемент тела. Эти границы суть начала того, что они ограничивают; подобно тому как единица, будучи, как сотая, границею, есть также элемент всей сотни.
Другое определение есть беспокойство нечто в его границе, которой имманентно быть противоречием, стремящимся превзойти себя самого. Так, точка, как диалектика себя самой, стремится стать линиею, линия – поверхностью, поверхность – целостным пространством. Второе определение линии, поверхности, всего пространства состоит в том, что чрез движение точки возникает линия, чрез движение линии – поверхность и т. д. Но это движение точки, линии и т. д. считается чем-то случайным, лишь представляемым так. Но такое мнение собственно тут же берется назад признанием того, что те определения, из которых должны происходить линия и т. д., суть их элементы или начала, а последние суть не что иное, как их границы; поэтому происхождение считается уже не случайным или только так представляемым. Что точка, линия, поверхность для себя, противореча себе, суть начала, которые сами себя отталкивают, и что точка тем самым из себя, посредством своего понятия, переходит в линию, движется в себе и производит ее и т. д., – это заключается в понятии имманентной нечто границы. Но самое это применение принадлежит к рассмотрению пространства; для того, чтобы здесь только намекнуть на него, мы можем сказать, что точка есть вполне отвлеченная граница, но в некотором существовании; последнее берется еще вполне неопределенно, оно есть так называемое абсолютное, т. е. отвлеченное пространство, просто непрерывное вне-бытие. В связи с тем, что граница не есть отвлеченное отрицание, но есть в этом существовании, что она есть пространственная определенность, и что точка пространственна, она есть противоречие отвлеченного отрицания и непрерывности и тем самым совершающийся и совершившийся переход в линию и т. д., – ибо собственно точки, как таковой, также нет, как и линии и поверхности.
Нечто, положенное со своею имманентною границею, как противоречие себя самого, чрез которое оно выводится и гонится вне себя, есть конечное.
c. Koнечность
Существование определенно; нечто имеет качество, и в нем не только определено, но и ограничено; его качество есть его граница, причастное которой оно остается прежде всего утвердительным, спокойным существованием. Но развитие этого отрицания так, чтобы противоположность существования и отрицания нечто, как имманентная ему граница, была сама его бытием внутри себя, и тем самым нечто было в себе лишь становлением, образует его конечность.
Когда мы говорим о вещах, что они конечны, то под этим подразумевается, что они не только имеют некоторую определенность, что их качество есть не только реальность и сущее в себе определение, что они не только ограничены, – так как при этом они имеют еще существование вне своей границы, – но что собственно небытие составляет их природу, их бытие. Конечные вещи суть, но их отношение к себе самим состоит в том, что они относятся к себе самим отрицательно и именно в этом отношении к себе самим простираются вне себя, за свое бытие. Они суть, но истина этого бытия есть их конец. Конечное не только изменяется, как вообще нечто, но оно преходит; и не только возможно, что оно преходит, т. е. что оно могло бы быть и без прехождения, но бытие конечных вещей, как таковое, содержит в себе, как их бытие внутри себя, зародыш прехождения, час их рождения есть вместе час их смерти.
α. Непосредственность конечности
Мысль о конечности вещей приводит с собою это горе потому, что она есть доведенное до крайнего обострения качественное отрицание, и в простоте такого определения за ними более не оставляется утвердительного бытия, отличного от их определения, как преходящих. В виду этой качественной простоты отрицания, которое возвратилось к отвлеченной противоположности ничто и прехождения с одной стороны и бытия с другой, конечность есть упорнейшая категория рассудка; отрицание вообще, состояние, граница допускают свое другое существование; даже отвлеченное ничто, как отвлеченность, оказывает уступку; но конечность есть упроченное в себе отрицание и поэтому резко противостоит своему утвердительному. Конечное, правда, приводится в течение, оно само есть то, что предопределено к своему концу, но только к своему концу; оно есть уклонение от утвердительного перехода в свое утвердительное, в бесконечное, от связи с ним; поэтому оно положено нераздельно со своим ничто, и тем самым отсекается всякое примирение с его другим, с утвердительным. Определение конечных вещей не простирается далее их конца. Рассудок окоченевает в этом горе конечности, делая небытие определением вещей, следовательно тем самым непреходящим и абсолютным. Преходящие вещи могли бы перейти лишь в свою противоположность, в утвердительное; таким образом их конечность отделилась бы от них; но она есть их неизменное качество, т. е. не переходящее в их другое, т. е. не переходящее в их утвердительное: итак, она вечна.
Это весьма важное соображение; но что конечное абсолютно, это такая точка зрения, которую едва ли взвалит на себя какая-либо философия, или какое-либо мнение, или какой-либо рассудок; напротив, в предположении конечного решительно дано противоположное: конечное есть только конечное, а не непреходящее; это заключается непосредственно в его определении и высказывании. Но вопрос состоит в том, упорствуют ли в мнении о бытии конечности на том, что преходимость сохраняется, или же признают, что преходимость и прехождение преходят. Но что последнее не имеет места, признается за факт именно в том воззрении на конечное, по которому прехождение есть последнее слово о конечном. Тем самым решительно утверждается, что конечное не согласимо и не соединимо с бесконечным, что конечное совершенно противоположно бесконечному. Бесконечному приписывается бытие, абсолютное бытие; в противоположность ему сохраняется конечное, как его отрицание; несоединимое с бесконечным, оно остается абсолютным на своей собственной стороне; утверждение оно могло бы получить лишь от утвердительного, от бесконечного, и таким образом прешло бы; но соединение с последним есть именно то, что признается за невозможное. Если же оно не должно сохраниться в противоположность бесконечному, а должно прейти, то, как сказано ранее, последнее слово о нем есть его прехождение, а не утвердительное, которое было бы лишь прехождением прехождения. Но если конечное не переходит в утвердительное, а концом его считается ничто, то мы снова возвращается к тому первому, отвлеченному ничто, которое само уже давно прешло.
Однако, этому ничто, которое должно быть только ничто, и которому тем не менее приписывается существование в представлении или слове, в мышлении, присуще то же самое противоречие, которое только что указано относительно конечного, с тою лишь разницею, что ничто оно лишь присуще, в конечности же решительно выражено. Там оно является субъективным, здесь же утверждается, что конечное непрестанно противостоит бесконечному, что не сущее в себе есть, и что оно есть именно как не сущее в себе. Это должно быть возведено в сознание; и развитие конечного показывает, что оно сосредоточивается в нем, как это противоречие, но при этом в действительности же разрешает последнее в том смысле, что оно не только преходящее и преходит, но что прехождение, ничто, не есть последнее, а само преходит.
β. Предел (Schranke) и долженствование (Sollen)
Хотя это противоречие отвлеченно заключается в том, что нечто конечно, или что конечное есть; но нечто или бытие положено уже не отвлеченно, а рефлектировано в себя, и развито, как бытие внутри себя, имеющее определение и состояние в нем, и еще определеннее, что оно имеет границу в нем, которая, как имманентная нечто и составляющая качество его внутри себя, есть конечность. Надлежит рассмотреть, какие моменты содержатся в этом понятии конечного нечто.
Определение и состояние оказались сторонами для внешней рефлексии. Но первое уже содержало в себе инобытие, как принадлежащее бытию в себе нечто; внешность инобытия с одной стороны заключается в собственной внутренности нечто, а с другой стороны она, как внешность, остается от него отличною, она есть еще внешность, как таковая, но в нечто. Но поскольку, далее, инобытие определяется, как граница, как отрицание отрицания, имманентное нечто инобытие полагается, как отношение обеих сторон, и единство нечто с собою, которому принадлежит, как определение, так и состояние, оказывается обращенным против себя самого отношением, отношением своих в себе сущих определений, отрицающим свою имманентную границу. Тожественное себе бытие внутри себя относится, таким образом к себе самому, как свое собственное небытие, но как отрицание отрицания, как отрицающее то, что вместе составляет в нем существование, ибо оно есть качество его бытия внутри себя. Собственная граница нечто, положенная относительно него, как нечто отрицательное, которое вместе с тем, существенно, есть не только граница, как таковая, но предел. Но предел положен не только как отрицаемое; это отрицание двусторонне, так как положенное им, как отрицаемое, есть граница; именно последняя есть вообще общее для нечто и для другого, есть определенность бытия в себе определения, как такового. Это бытие в себе тем самым есть отрицательное отношение к своей также отличенной от него границе, к себе, как пределу, долженствование.
Так как граница, вообще присущая нечто, есть предел, то нечто должно тем самым в себе самом переступать ее, само в себе относиться к ней, как к несущему. Существование нечто лежит спокойно и равнодушно как бы подле своей границы. Но нечто переходит свою границу, поскольку оно есть ее снятие, противоположное ей отрицательное бытие само в себе. И поскольку она в определении сама есть предел, нечто тем самых переходит само за себя.
Долженствование содержит в себе, таким образом, удвоенное определение, во-первых, как сущее само в себе определение против отрицания, и, во-вторых, как небытие, которое, как предел, отлично от него, но вместе с тем само есть сущее в себе определение.
Итак, конечное определяет себя, как отношение своего определения к своей границе; первое есть в этом отношении долженствование, последняя – предел. То и другое суть таким образом моменты конечного, и потому оба конечны, как долженствование, так и предел. Но лишь предел положен, как конечное; долженствование же ограничено лишь в себе, т. е. для нас. Оно ограничено чрез свое отношение к имманентной ему самому границе, но эта его ограниченность скрыта в бытие в себе, ибо по своему существованию, т. е. по своей определенности в противоположность пределу, долженствование положено, как бытие в себе. То, что должно быть, вместе и есть и не есть. Если бы оно было, то оно уже не было бы просто должно быть. Итак, долженствование по существу имеет предел. Этот предел не есть нечто чуждое; то, что только должно быть, есть определение, которое положено так, как оно есть на самом деле, именно как вместе с тем лишь некоторая определенность.
Итак, бытие в себе, свойственное нечто в его определении, нисходит до долженствования таким путем, что то, что составляет его бытие в себе, в таком же смысле есть небытие; и притом так, что в бытии внутри себя, в отрицании отрицания, это бытие в себе, как отрицание (отрицающее) есть единство с другим, которое вместе с тем, как качественное, есть другая граница, вследствие чего это единство оказывается отношением к ней. Предел конечного не есть внешнее, но его собственное определение, есть и свой собственный предел; и последний есть столь же он сам, как и долженствование; оно есть общее обоим или, правильнее, то, в чем они оба тожественны.
Но далее, как долженствование, конечное переходит за свой предел; та же самая определенность, которая есть ее отрицание, вместе с тем и снята, и есть таким образом его бытие само в себе; его граница вместе с тем не есть его граница.
Тем самым, как долженствование, нечто возвышается над своим пределом, но вместе с тем, наоборот, оно имеет свой предел, лишь как долженствование. То и другое нераздельно. Нечто имеет постольку предел, поскольку оно в своем определении имеет отрицание, а определение есть также снятие предела.
Примечание. Долженствование в новейшее время играло большую роль в философии, главным образом в отношении к морали, в метафизике же вообще также, как последнее и абсолютное понятие тожества бытия в себе или отношения к себе самому и определенности или границы.
Ты можешь, ибо ты должен – это заявление, которое должно было бы сказать многое, заключается в понятии долженствования. Ибо долженствование есть выход за предел; граница в нем снята, бытие в себе долженствования есть таким образом тожественное отношение к себе, т. е. отвлеченное понятие возможности (des Könnens). Ho столь же правильно сказать и наоборот: ты не можешь, именно потому что ты должен. Ибо в долженствовании столь же заключен предел, как предел; формализму возможности противополагается в нем реальность, качественное инобытие, и взаимоотношение их есть противоречие, т. е. отрицание возможности или, правильнее, невозможность (das Nichtkönnen oder vielmehr die Unmöglichkeit).
В долженствовании начинается возвышение над конечностью, бесконечность. Долженствование есть то, что в дальнейшем развитии изображает себя, по своей невозможности, как процесс в бесконечность.
В отношении к форме предела и долженствования могут быть осуждены два предрассудка. Во-первых, нередко придается много значения ограничениям мышления, разума и т. д., и утверждается, что невозможно выйти за эти ограничения. В этом заявлении дано отсутствие сознания того, что именно чрез определение нечто, как предела, уже совершается выход за этот предел. Ибо определенность, граница, определяется, как предел, лишь в противоположность своему другому вообще, как неограниченному ею; другое некоторого предела есть именно нечто вне его. Камень, металл не выходят за свои пределы именно потому, что для них нет предела. Но если при таких общих положениях рассудочного мышления, как то, что невозможно выйти за предел, мышление не хочет потрудиться рассмотреть, что заключается в понятии, то можно указать на действительность, обнаруживающую крайнюю ложность таких положений. Именно в силу того, что мышление должно быть чем-то высшим в отношении к действительности, вращаться отрешенно от нее в высших областях, и, стало быть, само определяется, как долженствование, оно с одной стороны не доходит до понятия, а с другой оказывается столь же ложным относительно действительности, как и относительно понятия. Так как камень не мыслит и даже не ощущает, то его предел не есть для него предел, т. е. не есть отрицание в нем ощущения, представления, мышления и т. д., которых он не имеет. Но и камень, как нечто, отличается в своем определении или бытии в себе и в своем существовании и в этом смысле и он выходит за свой предел; понятие чрез которое он есть в себе, содержит в себе тожество со своим другим. Если он есть способное к окислению основание, то он окисляется, нейтрализуется и т. д. В окислении, нейтрализации и т. д. его предел – быть только основанием – снимается; он выходит за этот предел; точно так же как кислота снимает свой предел – быть кислотою, и ей, равно как щелочному основанию, в такой мере присуще стремление превосходить свой предел, что они лишь силою – в безводном, т. е. не чисто нейтральном виде – могут быть сохранены, как кислота и щелочное основание.
Если же некоторое существование содержит понятие, не только как отвлеченное бытие в себе, но как сущую для себя полноту, как стремление, жизнь, ощущение, представление и т. п., то оно само из себя осуществляет бытие за своим пределом и переход за свой предел. Растение переходит за предел – быть зародышем, равно как за предел – быть цветком, плодом, листом; зародыш становится развитым растением, цветок отцветает и т. д. Чувствующее существо в пределах голода, жажды и т. д. есть стремление выйти за эти пределы и осуществление этого выхода. Оно чувствует боль, и чувство боли есть преимущество чувствующей природы; это чувство есть отрицание в нем самом, которое определяется в своем чувстве, как некоторый предел, именно потому что чувствующее существо обладает чувством своей самости, которое есть полнота, восходящая над этою определенностью. Если бы такого восхождения не было, то это существо не ощущало бы ее, как своего отрицания и не испытывало бы боли. Между тем разуму, мышлению, воспрещается переход за его предел – ему, который есть всеобщее, для себя восходящее над этим пределом, т. е. над всякою частностью, который, как такой, и есть лишь восхождение над пределом. Конечно, не всякий переход за предел и не всякое бытие за пределом есть истинное освобождение от него, истинное утверждение; самое долженствование есть такой несовершенный выход за предел и такое же отвлечение вообще. Но указание на вполне отвлеченное общее имеет достаточную силу против столь же отвлеченного утверждения, что нельзя превзойти предела, или указание на бесконечное – против утверждения, что нельзя выйти за пределы конечного.
Можно при этом упомянуть о по-видимому полном значения взгляде Лейбница, – именно, что если бы магнит обладал сознанием, то он считал бы свое направление к северу за определение своей воли, за закон своей свободы. Но, напротив, если бы он обладал сознанием, и при этом волею и свободою, если бы он был мыслящим, то пространство было бы для него, как общее, объемлющим все направления, и потому одно направление к северу было бы скорее пределом его свободы, подобно тому как для человека быть удержанным на одном месте есть предел, а для растения – нет.
С другой стороны, долженствование есть выход за ограничение, но только выход односторонний. Поэтому он имеет место и значение в области конечного, где он сохраняет бытие в себе против ограниченного и утверждает его, как правило и существенное, против несущественного. Долг есть некоторое долженствование против частной воли, против своекорыстной похоти и произвольного интереса; поскольку воля в своей подвижности может отделиться от истинного, последнее предстоит ей, как долженствование. Те, которые ставят моральное долженствование так высоко и полагают, что непризнание долженствования за последнее и истинное приводит к разрушению моральности, а также резонеры, рассудок которых доставляет себе постоянное удовлетворение в том, чтобы иметь возможность против всего существующего выставлять какое-либо долженствование и тем самым производить познание лучшего, и которые поэтому также не желают, чтобы их лишили долженствования, не замечают того, что лишь для конечности их кругозора долженствование признается вполне имеющим силу. Но в действительности разумность и закон вовсе не в таком печальном положении, чтобы они были только должны быть, причем остается лишь отвлеченность бытия в себе, – равно как чтобы долженствование было в нем самом вечным, что было бы то же самое, как если бы конечность была абсолютною. Философия Канта и Фихте признает долженствование за высший пункт разрешения противоречий разума, между тем как оно есть скорее остановка на конечности и потому на противоречии.
γ. Переход конечного в бесконечное
Долженствование содержит для себя предел, а предел – долженствование. Их взаимное отношение есть само конечное, которое содержит их оба в своем бытии внутри себя. Эти моменты его определения качественно противоположны; предел определяется, как отрицание долженствования, а долженствование, как отрицание предела. Таким образом конечное есть противоречие с самим собою; оно снимается, преходит. Но этот его результат, отрицание вообще, есть α, самое его определение; ибо оно есть отрицание отрицания. Таким образом конечное в своем прехождении не преходит; оно лишь становится другим конечным, которое, однако, также есть прехождение в смысле перехода в другое конечное, и т. д. в бесконечность. Ho β, при ближайшем рассмотрении этого результата оказывается, что конечное в своем прехождении, в этом отрицании себя самого, достигает своего бытия в себе, в котором оно совпадает с самим собою. Этот результат содержится в каждом из его моментов; долженствование выходит за предел, т. е. за себя само; но вне его или его другое есть лишь самый предел. Но и предел непосредственно указывает вне себя на свое другое, которое есть долженствование, а последнее есть такое же раздвоение бытия в себе и существования, как предел, есть то же, что и он; поэтому оно выходит за себя также лишь вместе с собою. Это тожество с собою, отрицание отрицания, есть утвердительное бытие, и тем самым другое конечного, которое должно быть его первым отрицательным определением; – это другое есть бесконечное.
С. Бесконечность
Бесконечное в своем простом понятии может прежде всего считаться новым определением абсолютного; оно положено, как неопределенное отношение к себе, как бытию и становлению. Формы существования выпадают из ряда определений, которые могут считаться определениями абсолютного, так как формы этой сферы положены для себя, непосредственно, лишь как определенности, вообще как конечные. Бесконечное же считается просто за абсолютное, так как оно решительно определяется, как отрицание конечного, и тем самым в бесконечном решительно признается отношение к ограниченности, которое может быть свойственно бытию и становлению, хотя бы в себе они были чужды этой ограниченности и не обнаруживали ее, и эта ограниченность в нем отрицается.



