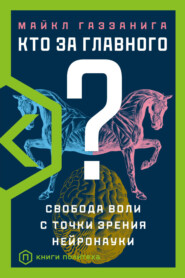
Полная версия:
Кто за главного? Свобода воли с точки зрения нейробиологии
Первое доказательство, что различия между нейронами человека и обезьяны на микроскопическом уровне существуют, обнаружил нейроанатом Тодд Пройсс с коллегами в 1999 году. Они увидели, что в первичной зрительной коре в затылочной доле мозга нейроны одного из подслоев (4А) у человека структурно и биохимически отличаются от соответствующих нейронов других приматов. Слой, который составляют эти нейроны, – часть системы, передающей информацию о распознании объекта от сетчатки через зрительную кору затылочной доли в височную долю. В мозге человека эти нейроны образуют сложную сетеобразную структуру – в отличие от простой вертикальной, как у других приматов. Открытие было крайне неожиданным, поскольку, по выражению Пройсса, “в нейробиологии зрения предположение о том, что между макаками и людьми нет значимых различий, – сродни догмату веры”{56}. Пройсс высказал догадку, что такое эволюционное изменение в организации нейронов могло обеспечить человеку превосходную способность различать объекты на окружающем фоне.
Эти результаты заставили ученых задуматься о том, что большинство наших представлений о структуре и функции зрительной системы опираются на выводы из исследований главным образом макаков. Как уже отмечалось, подобные открытия, демонстрирующие неидентичность коры мозга у людей и обезьян, по мнению Пройсса, как минимум обременительны. Обобщения нейробиологов о нейрональной архитектуре, организации мозга, связях и обусловленной всем этим работе основывались на результатах, полученных при изучении лишь нескольких биологических видов, а именно макаков и крыс. Насколько ошибочно такое основание – еще предстоит выяснить. Это заблуждение явно не ограничивается зрительной системой.
Даже основной “кирпичик” мозга, пирамидный нейрон (названный так за форму его тела, похожую на конфетку Hershey's Kisses в виде купола), привлек пристальное внимание. В 2003 году, после того как специалисты по сравнительной нейробиологии десятилетиями восхваляли одинаковость пирамидных нейронов у всех видов, австралийский ученый Гай Элстон подтвердил и напомнил нам оригинальные догадки Рамон-и-Кахаля. Как Дэвид Примак беспокоился, что при сравнении поведения разных видов сходство интерпретируется как равенство, так и Элстон сетует, что среди ученых, занимающихся сравнительной нейробиологией коры мозга млекопитающих, “к сожалению, слово ‘подобный’ многими толковалось как ‘точно такой же’”. Это породило широко распространенное мнение, будто кора мозга однотипна и состоит из одних и тех же повторяющихся структурных единиц, одинаковых у разных видов{57}. По мнению Элстона, в этом нет никакого смысла: “Если нейронная сеть префронтальной коры – области мозга, обычно вовлеченной в когнитивные процессы, – такая же, как и сети других зон коры, каким образом она может осуществлять столь сложную функцию, как человеческое мышление?” Это было непонятно и Рамон-и-Кахалю, посвятившему всю свою жизнь исследованиям, ведь он еще сто лет назад заключил, что мозг не состоит из одинаковых повторяющихся сетей.
Элстон и другие ученые обнаружили, что разветвленность и количество базальных дендритов у пирамидных нейронов префронтальной коры больше, чем в других кортикальных зонах. Поэтому дендриты этих нейронов обеспечивают каждому из них больше связей, чем в других частях мозга. Теоретически это означает, что отдельные нейроны префронтальной коры получают большее количество более разнообразных входных сигналов от большего участка коры, чем их сородичи в других частях мозга. На самом деле различия между пирамидными клетками не ограничиваются только теми, которые связаны с расположением в мозге. Элстон и его коллеги выявили также, что пирамидные клетки заметно различаются по структуре среди приматов{58}.
Кроме того, известно, что у разных видов нейроны по-разному отвечают на раздражение. В процессе нейрохирургической операции, когда вырезают опухоль, вместе с ней удаляют и немного здоровых нейронов. Гордон Шеперд, нейробиолог из Йельского университета, помещал такие человеческие клетки в тканевую культуру и регистрировал их электрические импульсы, генерируемые в ответ на внешнее раздражение, а затем проделывал то же самое с нейронами морских свинок. Он обнаружил, что дендриты нейронов этих двух биологических видов отвечают на внешние стимулы по-разному{59}.
Все еще разные типы нейроновВ начале 1990-х годов Эстер Нимчински с коллегами в Школе медицины Маунт-Синай решила заново изучить достаточно редкий и забытый тип нейронов, впервые описанный неврологом Константином фон Экономо в 1926 году{60}. Длинный, тонкий нейрон фон Экономо (по-другому – веретенообразный) отличается от более “коренастого” пирамидного нейрона. Нейрон фон Экономо больше в четыре раза. Хотя у обоих есть по одному апикальному (отходящему от вершины клетки) дендриту, у веретенообразного нейрона, в отличие от ветвистого пирамидного, есть также только один базальный дендрит (с противоположной стороны клетки). Кроме того, нейроны фон Экономо встречаются только в особых участках мозга, связанных с когнитивной деятельностью, – в передней поясной и фронтоинсулярной коре; недавно их также обнаружили в дорсолатеральной префронтальной зоне у людей{61} и слонов. Среди приматов эти нейроны найдены только у человека и человекообразных обезьян{62}, причем у людей как абсолютное их количество, так и относительное больше. В то время как у человекообразных обезьян насчитывается в среднем 6,95 тысячи таких нейронов, у взрослого человека их 193 тысячи, у ребенка четырех лет – 184 тысячи, а у новорожденного – 28,2 тысячи. Из-за локализации, структуры, биохимии этих клеток и из-за связанных с ними болезней нервной системы нейробиолог Джон Оллман из Калифорнийского технологического института и его коллеги{63} предполагают, что нейроны фон Экономо – часть нервной сети, вовлеченной в социальное осознание, и что они могут участвовать в принятии быстрых, интуитивных социальных решений. В линии гоминид эти клетки, судя по всему, возникли у общего предка высших приматов около 15 миллионов лет назад. Любопытно, что из млекопитающих эти нейроны были обнаружены исключительно у социальных животных с большим мозгом: у слонов{64}, у некоторых видов китов{65} и – совсем недавно – у дельфинов{66}. Причем нейроны фон Экономо у них появились независимо. Это пример конвергентной эволюции – процесса, в котором неродственные группы организмов приобретают сходные признаки. Хотя нейроны фон Экономо присущи не только людям, их количество в нашем мозге беспрецедентно.
В 2006 году Ирина Байстрон и ее коллеги нашли у человеческого эмбриона 31-51-го дня развития уникальные клетки-предшественники – первые нейроны, формирующиеся в коре головного мозга{67}. Ничего подобного этим клеткам пока не было найдено ни у одного другого вида.
У нас просто разные нейронные сети
Итак, число доказательств, указывающих на отличия – анатомические, в связности и по типам клеток – мозга человека от мозга других животных, растет. Поэтому, я думаю, мы вправе заявить, что мозг человека по сравнению с остальными животными организован иначе. И когда мы по-настоящему это осознаем, то сможем разобраться, что делает нас такими особенными.
Вот какие мы – рожденные с бурно развивающимся мозгом, который находится под мощным контролем генетики и совершенствуется под влиянием эпигенетических факторов (негенетических, заставляющих гены организма вести себя по-разному) и обучения, зависящего от активности. Мозгом, который обладает структурированной, а не случайной сложностью, производит автоматическую обработку информации, имеет особый набор навыков со своими ограничениями и универсальными способностями, – и все это возникло в ходе естественного отбора. В следующих главах мы увидим, что обладаем несметным числом когнитивных способностей, которые разделены и территориально представлены в разных частях мозга, каждая со своими нейронными сетями. Также у нас есть системы, которые работают одновременно, параллельно, распределенные по мозгу. Это означает, что наш мозг имеет несколько систем управления, не только одну. Именно он, а не какие-то вынуждающие его внешние психические силы создает нашу личную историю, рассказ о нас самих.
Однако нас ожидает много загадок. Мы попробуем понять, почему люди охотно признают, что механизмы ведения “домашнего хозяйства” нашего тела, например дыхание, – результат деятельности мозга, но так сопротивляются идее, что и наш разум воплощается в мозге. Другая головоломка, которую мы обсудим, – почему людям, по-видимому, с трудом верится, что мы рождаемся со сложным мозгом, а не с пустым, который легко изменить. Мы увидим, что то, как наш мозг функционирует, и наши представления о его работе и чувства влияют не только на идеи нисходящей причинности, сознания и свободы воли, но и на наше поведение.
Но что все это значит для каждого из нас? Как мог бы спросить Боб Дилан, каково это – понять, как мы оказались в таком положении? Каково сомневаться, несем ли мы моральную ответственность за свои действия и обладаем ли свободой выбора, и задумываться, как все это работает? Если кто-то верит, что человеческий разум, его мысли и обусловленные ими действия детерминированы, чувствует ли он себя как-то иначе по сравнению с другими людьми? Через одну главу мы узнаем, каково же понимать, почему мы чувствуем себя психологически цельными и уверенными в себе существами, хотя это, может быть, и не так. (Не беспокойтесь, у меня нет экзистенциального кризиса.) Несомненно, вы все еще будете чувствовать, что в значительной мере контролируете свой мозг, продолжите считать себя за главного, играющего первую скрипку. Вы по-прежнему будете ощущать, что некто – вы сами – здесь, принимает решения и держит руки на штурвале. Вера в то, что какая-то личность, человечек, дух, некто несет ответственность, называется проблемой гомункулуса. И это убеждение, похоже, ничто не может поколебать. Даже те из нас, кто знает факты и понимает, что все работает по-другому, тем не менее неодолимо чувствуют, что стоят во главе.
Глава 2
Параллельный и распределенный мозг
Вы помните эффектную сцену вскрытия трупа из фильма “Люди в черном”? Лицо открывается и обнажает расположенный под ним аппарат мозга, где всем заправляет, орудуя рычагами, маленький инопланетянин. Голливуд прекрасно изобразил то “я”, ощущаемый центр, нечто, осуществляющее контроль, – которое, как мы все думаем, у нас есть. И каждый в это верит, хотя и понимает – все устроено совершенно не так. На самом деле мы осознаем, что обладаем автоматическим мозгом, чрезвычайно распределенной и параллельной системой, у которой, по-видимому, нет начальника, как его нет у интернета. Таким образом, большинство из нас рождаются полностью оснащенными и готовыми к работе. Подумайте, например, о кенгуру валлаби. В течение последних девяти с половиной тысяч лет кустарниковые валлаби, или таммары, живущие на острове Кенгуру у побережья Австралии, наслаждались беззаботной жизнью. Все это время они жили без единого хищника, который бы им досаждал. Они даже никогда ни одного не видели. Почему же, когда им показывают чучела хищных зверей – кошки, лисицы или ныне вымершего животного, их исторического врага, – они перестают есть и настораживаются, хотя не ведут себя так при виде чучела нехищного животного? Исходя из собственного опыта, они не должны даже знать, что существует такое понятие, как животные, которых следует остерегаться.
Подобно валлаби, у нас есть тысячи (если не миллионы) встроенных склонностей к разным действиям и решениям.
Не стану ручаться за кенгуру, но мы, люди, полагаем, что сами, сознательно и намеренно, принимаем все свои решения. Мы чувствуем себя изумительно цельными, прочными сознательными механизмами и думаем, что стоящая за этим структура мозга должна как-то отражать это непреодолимое свойственное нам чувство. Но нет никакого центрального командного пункта, который бы, как генерал, раздавал приказания всем прочим системам мозга. Мозг содержит миллионы локальных процессоров, принимающих важные решения. Это узкоспециализированная система с критически важными сетями, рассредоточенными по 1300 граммов биологической ткани. Нет ни одного шефа в мозге. Вы уж точно ему не начальник. Вам хоть раз удалось заставить свой мозг замолчать уже и заснуть?
Сотни лет ушли на то, чтобы накопить знания об организации человеческого мозга, которыми мы сейчас обладаем. К тому же дорога была каменистой. И по мере того, как разворачивались события, неотступная тревога по поводу этих знаний сохранялась. Как все эти процессы могут сосредоточиваться в мозге столькими разными способами и тем не менее вроде бы функционировать как единое целое? История начинается с давних времен.
Локализованные функции мозга?
Первые зацепки появились в анатомии. Современные представления об анатомии человеческого мозга проистекают из трудов английского врача XVII века Томаса Уиллиса, в честь которого назвали виллизиев круг[8]. Он первым описал продольные волокна мозолистого тела и несколько других структур. Прошло чуть больше столетия, и в 1796 году австрийский врач Франц Йозеф Галль выдвинул идею, что различные части мозга выполняют разные психические функции, отражающиеся в индивидуальных талантах, чертах характера и склонностях. Он даже предположил, что нравственные и умственные способности человека – врожденные. Хотя идеи были хороши, они основывались на ложных предпосылках, которые не подтверждались надежными научными фактами. Галль думал, что мозг состоит из разных органов, каждый из которых отвечает за определенный психический процесс, проявляющийся в виде специфической способности или особенности характера. Если какая-то способность развита лучше, соответствующий орган увеличивается в размере – и это можно почувствовать, надавливая на поверхность черепа. Так он заключил, что, исследуя череп человека, можно выявить его способности и характер. Так родилась френология.
У Галля появилась и другая хорошая идея: он переехал в Париж. Говорят, однако, что он пришелся не по вкусу Наполеону Бонапарту, так как не приписал его черепу тех выдающихся отличительных признаков, которыми будущий император, по собственному мнению, обладал. Определенно, Галль не был политиком. Когда он подал заявление о вступлении в Академию наук в Париже, Наполеон распорядился, чтобы академия нашла какие-нибудь научные обоснования гипотез врача, так что физиолога Мари-Жан-Пьера Флуранса попросили предоставить строгие доказательства, которые бы подтвердили теорию Галля.
В то время существовало три метода исследования, которыми Флуранс мог вооружиться: он мог (1) хирургически разрушать конкретные участки мозга животных и наблюдать за результатами; (2) стимулировать различные области мозга животных электрическими импульсами и смотреть, к чему это приводит; (3) изучать пациентов с неврологическими нарушениями с клинической точки зрения, а после их смерти производить вскрытия. Флуранса захватила идея, что конкретные участки мозга осуществляют особые процессы (церебральная локализация), и он стал проверять эту гипотезу первым из описанных выше способов. Изучая мозг кроликов и голубей, он впервые показал, что так и есть – некоторые части мозга ответственны за определенные функции. Когда он удалял полушария мозга, не было больше восприятия, двигательных способностей и решений. Без мозжечка животные становились неуклюжими и теряли равновесие. А когда им вырезали ствол мозга – что ж, вы знаете, что происходило, – они умирали. Однако он не мог обнаружить ни одной зоны высших способностей, в частности памяти или мышления (как и психолог Карл Лешли, изучая мозг крыс, о чем мы говорили в прошлой главе). Флуранс сделал вывод, что эти функции более диффузно распределены по мозгу. Итак, предположение о том, что по черепу человека можно определить его характер и умственные способности, не выдержало строгости науки, и это занятие стало уделом шарлатанов. К сожалению, правильная мысль Галля о локализации церебральных функций была отброшена вместе с неправильной. Другую же его удачную идею – переехать в Париж – приняли хорошо.
Тем не менее не так уж много лет спустя благодаря клиническим исследованиям стали просачиваться сведения, подтверждающие идею Галля. В 1836 году другой француз – Марк Дакс, невропатолог из Монпелье, – отослал в Академию наук отчет о трех пациентах, в котором отметил любопытное совпадение: у всех троих были нарушения речи и сходные поражения левого полушария, обнаруженные при вскрытии. Однако наблюдения провинциального врача не слишком заинтересовали парижских ученых. Двадцать пять лет никто не обращал внимания на это открытие – что речь может нарушиться при повреждении только одного из двух полушарий, – пока в 1861 году знаменитый парижский врач Поль Брока не обнародовал отчет о вскрытии тела одного пациента по прозвищу Тан. У него развилась афазия, и он получил свое прозвище, потому что слово “тан” оказалось единственным, которое он остался способен произнести. Брока обнаружил у Тана сифилитическое поражение в левом полушарии, в нижней части лобной доли. Затем он приступил к изучению еще нескольких пациентов с афазией и нашел у них поражения в том же месте. Эта область, которую позже назвали речевым центром, также известна как зона Брока. В то же время немецкий врач Карл Вернике обнаружил пациентов с повреждениями в височной доле, которые слышали слова и звуки совершенно нормально, но не могли их понимать. Так начался поиск зон мозга, соответствующих определенным способностям.
Британский невролог Хьюлингс Джексон подтвердил открытия Брока, однако в этой истории он полноправный участник. Его жена страдала генерализованными припадками, которые он мог наблюдать очень близко. Он заметил, что судороги всегда начинались в определенной части ее тела и последовательно распространялись дальше по неизменной схеме. Это подсказало ему, что особые участки мозга контролируют движения разных частей тела. Так возникла теория, согласно которой моторная активность зарождается и локализуется в коре головного мозга. Джексон также имел в своем распоряжении офтальмоскоп, который несколькими годами ранее изобрел Герман фон Гельмгольц, немецкий врач и физик. Этот инструмент позволяет врачу заглянуть в заглазную область. Джексон считал, что невропатологу важно изучать глаз, а зачем – станет ясно далее. Подобные клинические наблюдения, за которыми следовали данные вскрытий, все больше и больше подтверждали правоту догадки Галля о локализации церебральных функций.
Великий мир бессознательного
Локализация была не единственной назревавшей идеей о функционировании мозга. Различные художественные произведения, от “Отелло” Шекспира до “Эммы” Джейн Остин, содержали намеки на то, что многое в мозге происходит в сфере неосознаваемого. Хотя идею об айсберге, лишь верхушку которого составляет сознание, а всю скрытую часть – бессознательные процессы, обычно связывают с именем Зигмунда Фрейда, он был не автором ее, а глашатаем. Многие опередили Фрейда, подчеркнув важность бессознательного, – в особенности философ Артур Шопенгауэр, вдохновитель большого числа его идей, а позже англичанин Фрэнсис Гальтон, викторианский аналог человека эпохи Возрождения. Гальтон занимался многими вещами – был антропологом, исследователем тропиков (Юго-Западной Африки), географом, социологом, генетиком, статистиком, изобретателем, метеорологом. Он даже считался отцом психометрии – дисциплины, занимающейся разработкой инструментов и методов оценки интеллекта, эрудиции, черт характера и так далее. В журнале Brain[9] он изобразил разум в виде дома, возведенного на “сложной системе дренажей и газо- и водопроводных труб… которые обычно скрыты от глаз и о существовании которых, пока они хорошо работают, мы и не задумываемся”. В конце этой статьи он писал: “Пожалуй, самое сильное впечатление от всех этих опытов оставляет многогранность работы, выполняемой разумом в полубессознательном состоянии, а также убедительный довод, представляемый этими опытами в пользу существования еще более глубинных слоев психических процессов, целиком погруженных ниже уровня сознания, которые могут отвечать за психические феномены, иначе не объяснимые”{68}. В отличие от Фрейда, Гальтон хотел обосновать свои теории четкими результатами, получаемыми с помощью статистических методов. Он добавил в арсенал исследователей статистические понятия корреляции, среднеквадратичного отклонения и регрессии к среднему значению, а также первым начал проводить опросы и использовать анкеты. Гальтона также интересовала наследственность (неудивительно, ведь его двоюродным братом был Чарльз Дарвин). Он первым стал употреблять выражение “наследственность или среда” и проводить исследования на близнецах, чтобы выявить различающиеся для них факторы[10].
Итак, возникавшие идеи о локализации функций мозга и о бессознательных процессах обсуждались, но, как мы видели в прошлой главе, в начале XX века страдали из-за широкого признания бихевиоризма и теории эквипотенциальности мозга. Хотя последняя всегда сталкивалась с серьезным вызовом со стороны клинической медицины. Это началось с наблюдения Дакса, заметившего связь между поражением специфической зоны мозга и конкретными последствиями у ряда людей. Теория эквипотенциальности мозга никогда не могла объяснить ни этого, ни многих других неврологических случаев, казавшихся загадочными. Однако, как только ученые поняли, что мозг содержит распределенные и специализированные нейронные сети, некоторые из этих клинических тайн разрешились. Даже до изобретения современных методов визуализации мозга и электроэнцефалографии изучение расстройств пациентов, страдающих поражениями мозга, позволило понять работу этого органа в норме и то, как он выполняет когнитивные функции.
Помощь пациентов
Нейробиологи в неоплатном долгу перед множеством пациентов, которые великодушно соглашаются участвовать в исследованиях. Изучение пациентов с помощью рентгеновского излучения и первых сканирующих устройств показало, что поведенческие расстройства любого рода вызываются поражениями определенных областей мозга. Например, повреждение специфического участка теменной доли может вызвать странный синдром редуплицирующей парамнезии, когда у человека возникает галлюцинаторная убежденность в том, что данное место в точности копирует какое-то другое или что одновременно существует несколько таких же точно мест. Одна моя пациентка, которую я принимал в моем кабинете в нью-йоркском госпитале, утверждала, что мы в ее доме во Фрипорте, штат Мэн. Я начал с вопроса: “Где вы сейчас находитесь?” Она ответила: “Во Фрипорте, штат Мэн. Знаю, вы в это не верите. Доктор Познер, когда зашел осмотреть меня утром, сказал, что я в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга. Прекрасно, но я-то знаю, что нахожусь в своем доме на Главной улице Фрипорта!” Я спросил: “Хорошо, если вы во Фрипорте у себя дома, с каких это пор у вас лифты за дверью?” Она невозмутимо ответила: “Доктор, знали бы вы, во сколько мне обошлась их установка!”
Переместимся к передней части мозга. Повреждение боковых участков лобных долей влечет за собой отклонения, которые проявляются при выполнении последовательности действий, так что человек теряет способность решать несколько задач одновременно или планировать. Поражения глазничной части лобной доли, находящейся непосредственно над глазницами, прерывают эмоциональные цепочки реакций, которые осуществляют обратную связь для отслеживания когнитивных состояний, так что человек может утратить способность решать, что хорошо, а что плохо. Также может ухудшиться способность подавлять некоторые формы поведения, что придаст поступкам человека импульсивный, навязчивый, агрессивный и/или жестокий характер, а также породит нарушения высших когнитивных функций. А повреждение зоны Вернике в левой височной доле вызывает афазию Вернике, при которой человек может совершенно перестать понимать устную или письменную речь и начинает сам говорить тарабарщину, хотя, возможно, бегло и в естественном ритме. Таким образом, благодаря клинической медицине мы видим, что конкретные части мозга связаны с определенными аспектами когнитивной деятельности.
Функциональные модули
Действительно, сегодня кажется, что функции мозга локализованы куда точнее, чем даже Галль мог представить. Некоторые пациенты имеют такие повреждения в височной доле, при которых очень плохо распознают животных, но не предметы, созданные человеком, и наоборот{69}. При поражении в одном месте вы не сможете отличить джек-рассел-терьера от барсука (не то чтобы между ними была большая разница), а в другом – не узнаете тостер. Встречаются даже люди, которым определенные повреждения мозга не позволяют распознавать исключительно фрукты. Исследователи из Гарвардского университета Альфонсо Карамазза и Дженнифер Шелтон утверждают, что мозг содержит специализированные познавательные системы (модули) для одушевленных и неодушевленных предметов, с разными нейронными механизмами. Эти системы, связанные с конкретными областями, не содержат знания как такового, но заставляют нас подмечать различные стороны ситуации и тем самым увеличивают наши шансы на выживание. Например, это могут быть достаточно специфические детекторы для некоторых хищных животных, в частности для змей или крупных кошачьих{70}. Стабильный набор соответствующих визуальных признаков может быть закодирован в мозге, вынуждая нас обращать внимание на определенные типы биологического движения (скольжение в случае змей) или на особые характеристики животного (острые зубы, обращенные вперед глаза, размер и форма тела в случае больших кошек). Такие признаки используются как входная информация для распознавания опасных животных{71}. У нас нет врожденного знания, что тигр это тигр, зато есть врожденное понимание того, что большое крадущееся животное с острыми зубами и обращенными вперед глазами – хищник, и мы автоматически настораживаемся. Подобным же образом мы автоматически получаем небольшую дозу адреналина и отскакиваем в сторону, заметив скользящее движение в траве.



