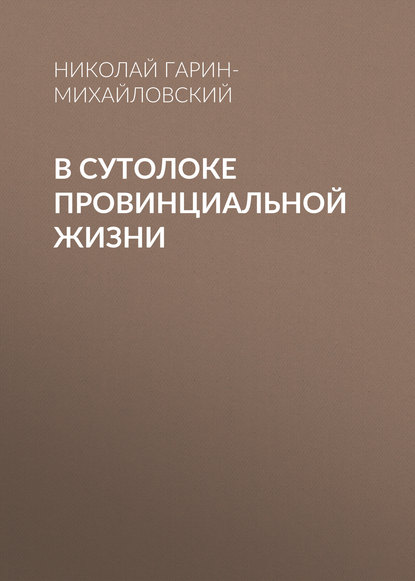 Полная версия
Полная версияВ сутолоке провинциальной жизни
Студент доктор был весь поглощен своею специальностью и не хотел связывать себя никакими кличками.
Геннадьич относился к доктору сперва пренебрежительно и восхвалял Лихушина.
– Сила, знанье! И на все его хватает, – это герой.
Но кончилось тем, что к Лихушину Геннадьич стал охладевать и, наоборот, начал все больше увлекаться доктором.
– У Лихушина крупный недостаток: у него «я» даже его переросло.
Доктор был простой, уравновешенный малый. Он и ел, и пил, и пел, и работал и с одинаковым усердием, весело, взасос все это делал.
Он весь сосредоточивался на том, за что брался в данный момент с увлечением, с огнем.
Не любил он только всяких отвлеченных споров. Это было единственным временем, когда доктор вдруг сосредоточивался и, молча пощипывая свою бородку, терпеливо ждал, когда кончат спорщики. Иногда ждать приходилось долго, и доктор говорил:
– Давайте лучше петь, господа.
– Ты не любишь споров? – спрашивал его Геннадьич.
– Я понимаю, – отвечал доктор, – научные диспуты: соберутся люди специально с этою целью, строго держатся основной нити, а вы ведь, как козы, прыгаете с одного предмета на другой.
– Ну черт с тобой, будем петь!
И они пели: Геннадьич стоя, вытягивая свою длинную шею, складывая руки на животе, точно кто собирается в это время ткнуть его, а доктор, кряжистый, сильный, пригибая подбородок, упираясь так, словно собирался бороться.
Пели они с чувством, с силой: Геннадьич тенорком, доктор – мягким раскатистым баритоном. Пели, увлекаясь, иногда по целым ночам.
Но в восемь часов утра, умытый и свежий, доктор уже открывал свою лавочку, то есть прием больных.
Собранный, возбужденный, он толково опрашивал больных, своим интересом к ним вызывая и в них энергию и веру.
Популярность его росла, и прием больных доходил до восьмидесяти в день.
– И ведь это, – толковал нам доктор, – не земский прием, где и двести пятьдесят примут таким путем: «Эй, у кого рвота, болит живот под ложечкой – выходи влево. У коего великая скорбь – стой на месте. У кого глаза – вправо. У кого лихоманка – иди к забору. Остальные заходи в приемную». Зайдет человек двадцать, из которых штук пятнадцать еще отправит к прежним группам, которым фельдшера по одному рецепту выдают лекарства. А я ведь каждого больного… Вы пожалуйте-ка ко мне на прием.
На приеме у доктора была образцовая чистота.
Доктор в белом балахоне, его помощница по составлению лекарств – Анна Алексеевна Кожина, дочь мелкого землевладельца, окончившая гимназию и собиравшая деньги для того, чтобы продолжать свое образование – тихая, безответная, молоденькая.
Доктор с аппетитом тормошил больного, пощипывая бородку, стреляя своими большими глазами, напряженно, очевидно, перебирая в памяти учебники.
– У-гм… У-гм… А вот здесь не болит? Болит… У-гм…
Доктор задумывался, иногда справлялся в книгах.
Прием тянулся до обеда. Обедали к часу. После обеда доктор спал, потом с помощницей готовил порошки общеупотребительных лекарств для другого дня и затем, покончив, отдавался отдыху.
Томившийся бездельем Геннадьич, которому надоело уже все и даже чтение, пытался иногда нарушить режим доктора.
– Нет, – отрезывал доктор, – все в свое время. А ты вот, чем баклуши бить, – помогай.
Геннадьич стал помогать и так увлекся, что сделался вторым помощником доктора.
Как раньше Геннадьич находил интерес в сельском хозяйстве, сопровождая Лихушина по целым дням в поле, часто после совершенно бессонных ночей, так теперь увлекался всякими болезнями и толкованиями по поводу них доктора: рылся с ним в учебниках, а в сомнительных для него случаях ездил к Константину Ивановичу, как объяснял он, с целью вывести доктора на свежую воду.
За обедом Геннадьич с одушевлением рассказывал разные сцены из приемной жизни.
– Бабы, особенно девки, прямо безнадежны: тупость… Язык у них у всех, – говорил Геннадьич, – какой-то совершенно особенный. Приходит мрачный крестьянин с экземой: «Наш фельдшеришка толкует: у тебя рак подкожный – зудом и выходит». Другой говорит: «пузерь у меня», – оказывается отрыжка. Иногда ничего не поймешь: «ноняй от работы, ноняй от тоски сохну» – это значит: не то от работы, не то от тоски сохну. Или: «Голова хрустит; пока чемир дергают, легче, а ноне ни один волос не щелкал, потому и голове не легче». Это значит, что голова у нее болит, и пока выдергивают ей волосы и пока они щелкают, голове легче. «Как, говорит, выпью, душа навалится и нельзя дышать». А одна старушка: «Ох, батюшка, вся-то я разорилась…» Все свои члены они называют уменьшительно: глазоньки, или просто зеньки, рученьки, брюшенько, брюшко. Покажи язык: «Не смею». Или закроет рукой и еле высунет под ней кончик языка.
– Я не понимаю, – горячился Геннадьич, – как тут жили, как могут жить люди без медицинской помощи? Нет, черт с ними, с изысканиями и со всем инженерством, – осенью еду за границу изучать медицину.
Геннадьич понемногу и всех увлек медициной.
Однажды привезли к доктору из соседнего села одного крестьянина, который как-то вилами проткнул себе живот.
– Дрянь дело, – сказал, осмотрев, доктор, – надо выписать Константина Ивановича.
И вот Константин Иванович, наш доктор студент, Геннадьич и Анна Алексеевна, да и мы все по очереди несколько дней и ночей просидели над умиравшим от перитонита крестьянином.
Громадный крестьянин, силач и красавец, лежал, смотрел на всех вопросительными глазами и тяжело дышал. Положение его ухудшалось с каждым часом, лицо куда-то проваливалось, все больше и все больше вырастала вся эта масса вздутого живота его, тяжело и неровно опускавшегося.
Было эпическое во всей этой простой покорной смерти этого колосса, в его жене – стойкой, тоже покорной, двух маленьких ребятишках, окружавших постель отца.
В редкие минуты облегчения крестьянин делился своими думами.
Однажды, обернувшись ко мне, он облегченно заговорил.
– Скоро это все кончится: приезжал к нам один, – переписывал, у кого что есть, а солдат один видел его в Питере и признал. Подходит к нему и говорит: «Ваше благородие, а ведь я признал вас». И сказал ему, кто он. Тот испугался, вскочил и говорит: «Что ты, что ты, и никому этого не говори». И сейчас лошадей себе потребовал. Ну, схватились тут мы, что не ловко сами сделали, – он будто не хотел, а мы его вроде того, что открыли… Миром и порешили: мне везти его и рассказать ему в дороге про всю нашу крестьянскую нужду. Лучших лошадей собрали, я кафтан надел… Как поехали, народ весь на колени… Выехали за околицу, повернулся я к нему и стал ему все докладывать: как народ без земли бьется, как трудно жить: хоть у Авдея Махина, пятнадцать рабочих ртов на четырех десятинах сидят: с чего же тут хлеб есть? Все, все рассказал. – Больной понизил голос: – И про себя не утаил, – признался ему, что две лошади свели у меня осенью со двора: совсем разорился… Так с тем и уехал тот на чугунку… И так что надеемся мы теперь, крепко надеемся, что все переменится… и скоро… скоро… будет и нарезка и скотина: все будет…
Он лежал на кровати, одетый в наше тонкое белье, шелковая подушка была под его головой, его поили шампанским, за ним был самый нежный, самый трогательный уход. Больной оглядывал с удивлением себя, переживая, вероятно, какую-то сказку от этой переменившейся вдруг обстановки: как будто уже начинал сбываться заветный сон жизни…
На третий день сразу произошел крутой поворот к худшему.
– Гнилостный перитонит, – объяснил Константин Иванович, – вилы, очевидно, проткнули брюшину и кишку снизу вверх, из кишки успело выйти содержимое, затем стянуло и кишку и брюшину, и это содержимое, не имея выхода, произвело гнилостный, не гнойный, гнилостный процесс. Возбуждающие больше не действуют: если его разрезать теперь, то печень и сердце у него уже совершенно желтые от жирового перерождения. Колляпс полный, очень скоро конец при полном сознании.
На одно только мгновение больной как будто потерял сознание. Он вдруг, смотря перед собой, и радостно и испуганно спросил:
– Откуда кони? – Но сейчас опять пришел в себя и скорбным голосом сказал: – Помираю я…
Он протянул нам руку, пожал наши, с усилием кивая головой и говоря сухим раскрытым ртом, сверкавшим белыми зубами:
– Помираю, прощайте, прощайте…
Он простился с женой, благословил детей.
Последняя вошла в комнату Анна Алексеевна.
Он порывисто протянул ей руку и, когда она наклонилась, шептал ей уже без голоса с потрясающим чувством тоски:
– Помираю я, прощай… Ты как мать родная была со мной… лучше матери.
Кроткая, тихая, вся воплощенная любовь, так и застыла над ним Анна Алексеевна, смотря в его глаза. Порывисто дыша, он смотрел на нее сухими, воспаленными глазами, открывая все больше рот. Понемногу глаза поднимались все выше и выше, а рот открывался все больше и больше, пока с последним усилием вздохнуть не застыло без стона и звука все это громадное тело и рот, и глаза в неподвижной, спрашивающей позе.
Без стона и звука упала на землю и стоявшая на коленях жена, и молча, судорожно забилось ее тело о пол.
Анна Алексеевна, все время спокойная и стойкая, молча поднялась, перешагнула через жену умершего и вышла в другую комнату. Выйдя, она побежала и бежала все быстрее и быстрее с широко раскрытыми глазами, изредка вскрикивая, хватаясь за голову, пока не упала и не начала кричать неистово и дико.
Ее крики и хохот неслись по всему дому, потрясая воздух. Голосом раздирающего душу отчаяния и тоски она кричала имя умершего: «Григорий, Григорий, мама, мама!»
Доктор тихо объяснил, что недавно умерла ее мать, и с ней был такой же припадок.
Я в это мгновение вспомнил вдруг, как эта Анна Алексеевна говорила тоскливо, стоя у окна:
– Где же выход? Как жить, чтобы не жалко было, что жила?
И еще угнетеннее теперь раздавались ее вопли: «Мама, мама! Григорий, Григорий!..»
Доктор и Геннадьич возились с ней: Геннадьич взволнованный, готовый сам обезуметь, доктор Константин Иванович спокойный и совершенно желтый.
– Сам уже ходячий мертвец, – сказал наш доктор, когда Константин Иванович, успокоив Анну Алексеевну, уехал, – водянка началась уже, а живет ведь как самый нормальный человек: вот это сила…
……………………………
XX
Компания наша увеличивалась.
В одно из воскресений на двор князевской усадьбы въехала плетушка, запряженная в одну лошадь. На козлах сидел молодой парень, а в плетушке – Писемский, по обыкновению сгорбленный, весь ушедший в плетушку, и только изгрызенная соломенная шляпа торчала оттуда.
– Шурка, – радостно приветствовал Геннадьич вошедшего в столовую приятеля, где в это время компания садилась за обед.
Писемский, комично пригнувшись, спросил:
– А что, место учителя свободно? – И, махнув рукой, рассмеявшись по-детски, сказал: – Выгнали!
– Ну? – заревел, присев от восторга, Геннадьич.
– Ей-богу!
– Молодец! Рассказывай, за что?
– Да и рассказывать нечего: глупо уж все это вышло, – проговорил Писемский, присаживаясь к столу.
Он огорченно оглянулся и бросил шляпу в угол.
– Пришел Василий, – Писемский по-детски рассмеялся и показал на Лихушина, – вот его заместитель, и сказал, что господа велели школу под барский дом повернуть.
– Ну, на это права они не имеют, положим, – заметил Лихушин.
– Тебя, что ли, спрашивать будут? – усмехнулся Писемский и опять серьезно продолжал: – Горянов тут много напутал: какой-то, видите, будто бы мальчик из моей школы ему сказал, что бога нет и что это будто бы я сказал мальчику.
– Сказал? – лукаво подмигнул Писемскому Геннадьич.
– Да, что я сумасшедший? Комичнее всего, что сам батюшка возмущен, распинается, что этого не было и быть не могло… С библиотекой тоже… Одним словом, изобразил меня перед владельцами таким, что, того и гляди, и их самих потащат…
Геннадьич кричал:
– Господа, ура! За Шурку! Ах, черт, как у них тут весело будет, ей-богу! не плюнуть ли уж сразу на все эти изыскания? А то пойдем с нами, Шурка?
– Нет, уж я насчет школы, – усмехнулся Писемский.
– И пчельник мы тебе навяжем, – говорил Лихушин, быстро глотая щи.
– Пчельник – согласен: летом, с ребятишками – одна прелесть…
– Я с изысканий, Шурка, прямо к тебе на пчельник, – сказал Геннадьич, наотмашь ударив по плечу Писемского.
У Писемского сразу нашлась работа.
Дело в том, что, несмотря на большой состав служащих, в разгар работ их все-таки не хватало, и вот понемногу все грамотные из Князевки, бывшие ученики жены, превратились в надсмотрщиков. Многие из них успели порядком призабыть свою грамоту и теперь после посева, энергично принялись с Писемским за ее восстановление.
Я думаю, что характеристика нашей компании будет не полная, если я не скажу несколько слов еще об одном члене ее – Галченке.
Он пришел пешком, молодой, высокий, худой, до крайности оборванный.
Он вошел ко мне и, не стесняясь своим видом, покровительственно протянув мне руку, сказал:
– Галченко. Я зашел к вам узнать, нет ли у вас какой-нибудь работы?
– В каком роде?
Галченко уже сел и, обтирая пот с лица, сказал небрежно:
– А уж это сами придумайте.
– Хорошо, пока поживите с моими товарищами.
И я направил Галченко к Геннадьичу.
– Это очень интересный субъект, – сказал мне вечером Геннадьич, – возьмем его на изыскания пикетажистом, – больших знаний здесь не нужно.
Так и порешили, а так как разрешения приступить к изысканиям еще не было, то с Галченко проходился предварительный курс.
Галченко пренебрежительно слушал и говорил:
– Понимаю: ерунда…
– Ну, теперь попробуйте сами, – сказал ему как-то Геннадьич и задал самостоятельную работу.
Работа была небольшая, а между тем Галченко не явился ни к обеду, ни к четырехчасовому чаю.
– Надо идти к нему, – решил Геннадьич.
Он нашел Галченко в овраге, в меланхолическом созерцании сидевшего на земле.
– Ну, как дела?
– Дрянь.
– Вы до чего же дошли?
– До полного отчаянья дошел, хочу совсем уйти от вас: все равно ведь ни инженером, ни вором никогда не буду…
Временный упадок духа скоро, впрочем, прошел у Галченка, и он опять на каждом шагу постоянно твердил с громадным самомнением:
– Ерунда!
Вообще он имел такой вид, как бы говорил каждому человеку, с которым встречался:
«Друг мой, и рта лучше не открывай: надо примириться с тем, что ты, и все, что в тебе, – ерунда».
Почти не слушая Геннадьича, он с апломбом осаживал его:
– Ерунда!
Сажину говорил:
– Окончательная ерунда.
– Что же, наконец, по-вашему, не ерунда? – приставал к нему Геннадьич, – анархизм?
– Ерунда.
– Толстовщина?
– Ерунда.
– Декадентство?
– Ерунда.
– Сверхчеловек вы, что ли?
– Ерунда.
Но однажды, прижатый к стене, он изложил, наконец, свои взгляды.
– В сущности, если отделить всю его отсебятину, – резюмировал Сажин, – получается теория государственного социализма в буржуазном государстве с прибавкой русского чиновника: не ново во всяком случае.
– Ерунда, – авторитетно махнул рукой Галченко.
– Сами вы, друг мой, ходячая ерунда, – на этот раз как союзник Сажина ответил ему Геннадьич.
Галченко, конечно, не обратил никакого внимания на слова Геннадьича.
Галченко по целым дням где-то пропадал.
Иногда видели его где-нибудь евшим с крестьянами в поле.
Однажды, гуляя, Галченко забрел верст за десять от Князевки и устал. На лугу паслись чьи-то лошади, и Галченко, долго не думая, сел на одну из них и поехал назад в Князевку. Очень скоро после этого его нагнали и со всех сторон окружили верховые крестьяне.
– Стой!
Галченко, ни больше ни меньше, как приняли по его действиям и костюму за конокрада.
Положение его было очень опасное, потому что с конокрадами крестьяне обыкновенно расправляются судом Линча.
Галченко, поняв опасность, ввиду крайности назвался ненавистным ему именем инженера.
На счастье его с ним был компас, и он представил его, как доказательство своего звания.
После совещаний крестьяне решили все-таки проводить Галченко, не доверяя ему, в Князевку.
И вот, высокий и худой, на белой кляче, появился во дворе князевской усадьбы Галченко, окруженный толпой верховых крестьян.
Мы все высыпали во двор, и Галченко, хотя и смущенный, начал свой рассказ с своего обычного:
– Ерунда: понимаете, – ну, устал я, а хозяев нет, – приеду, думаю, и отошлю лошадь, конечно, заплачу…
Геннадьич визжал от восторга. Один из конвоировавших Галченко крестьян, когда недоразумение уже выяснилось, сказал мне с упреком:
– Ты бы хоть портки новые купил ему: вишь рваный весь какой ходит.
– Да ведь не хочет, – отвечал я.
Верстах в двадцати от меня жил один оригинал дворянин. Выстроил он себе пароход, который должен был ходить по льду, но не ходил; мельницу, которая не молола; держал громадную дворню, часть которой составляла конную стражу, одетую в старинные костюмы. С этой стражей он носился по своим полям, и горе было нарушителям издаваемых самодуром законов. Стража его готова была на всё: секли и, говорят, даже без вести пропадали в этом имении люди.
Доступ к владельцу был крайне сложный. У ворот стоял часовой, которому сообщалось имя приехавшего. Этот часовой кричал имя швейцару, тот передавал дальше лакею при дверях, у каждой двери находился такой же лакей, пока очередь не доходила до двери той комнаты, где находился владелец. Таким же путем получался обратный ответ.
Галченко умудрился не только попасть к этому помещику, но даже прогостил у него несколько дней.
– Замечательно интересный субъект, – лаконически сообщил нам возвратившийся Галченко.
И на все остальные расспросы отвечал:
– В свое время всё узнаете…
Действительно через несколько дней в местной газете появились очерки под заглавием: «Типы современной деревни».
В число их попал и помещик-самодур.
Галченко имел мужество сам отнести этот нумер газеты помещику.
– Вот чудак, – рассказывал, возвратившись, Галченко, – можете себе представить, он обиделся на меня.
– Может, – отвечал Геннадьич, – вздули вас?
– Вздуть не вздули, а влетело…
– Да уж признавайтесь.
– Ерунда… Но странно, ей-богу, как у людей совершенно нет общественной жилки, нет способности видеть самих себя со стороны: говорит, что я не его, а урода какого-то изобразил…
Галченко весело рассмеялся.
Галченко пришлось еще больше убедиться в отсутствии способности видеть себя со стороны, когда в очереди очерков появился Лихушин.
Лихушин, хотя и был изображен крупным и талантливым инициатором, но человеком, у которого и все его дело было построено на его «я», и служил он своим делом только вящей эксплуатации крестьянского труда да набиванью хозяйского кармана.
Лихушин очень обиделся.
– Да чем же проявляется это мое «я»? – спрашивал Лихушин, сидя с нами со всеми на террасе в саду.
– Ну, положим, мало ли я с вами ездил, – отвечал ему Геннадьич. – «Почему так сделано, когда я приказал так?» «Я так хочу». «Я так сказал». На каждом ведь шагу это. Все ваши помощники не смеют ни на йоту ослушаться, никакой самостоятельности, никакой инициативы вы им не даете…
– Словом, полный крепостник, – бросил с своей высоты Галченко.
Галченко взобрался на верх балюстрады, сидя там наподобие птицы.
– Потому что, – отвечал Лихушин, – всякое дело можно вести только, когда один хозяин.
– Крепостнический взгляд, – бросил опять Галченко, – и вашим извинением может служить только то, что и пообразованнее вас русские люди, можно сказать, светочи просвещения, так же деспотичны: любой русский редактор проповедует, что только один он, «я», может вести дело, и он не потерпит никакого вмешательства.
– Не знаю, не замечал я, по крайней мере за собой, – угрюмо отвечал Лихушин и, встав, ушел.
– Замечать за собой, – наставительно сказал вслед ему Галченко, – высшая и трудная работа… Куда же вы?
И, когда Лихушин, не отвечая, ушел, Галченко прибавил:
– Ты сердишься, Гораций…
– Да вот, собственно, насчет набивания карманов, вящей эксплуатации, – заговорил Геннадьич. – Я смотрю на нашу хотя бы компанию, и у меня получается какое-то двойственное впечатление. С одной стороны, люди, как люди, с известными убеждениями, – Геннадьич прищурился на Сажина, – хотя бы и с жесткими, но во всяком случае по своим убеждениям не имеющие ничего общего со всем, что носит на себе печать буржуазного, а между тем мы все в своей деятельности служим этой самой буржуазии и самым пошлым образом при этом служим, создаем дела, которые должны набить, – он обратился ко мне, – ваши и других таких же карманы. Что же это с нашей стороны? – несостоятельность, крах, прежде чем жить, можно сказать, начали – крах, в силу которого мое «я» со всей своей волей – нуль, ничто, жалкая или роковая игрушка обстоятельств?
– Великолепно, – кивнул ему из своего угла Сажин, – жму вашу руку.
– За что это? – насторожился Геннадьич.
– Да то, что «я» оказывается не при чем в общем ходе событий, – попытки этого «я» обособиться уподобляются в некотором роде усилию поднять самого себя за волосы. Это именно то, что называется: приехали…
– По-моему, заехали, – ответил Геннадьич, – но не в этом дело, а вы-то сами куда же приехали?
– А мы приехали в область внебуржуазную, наша точка опоры вне.
– Где же? Мы с вами, кажется, из того же места получаем жалованье.
– Мы с вами, во-первых, ремесленники: сапожники, которые шьют сапоги и думают о том, чтоб за свой труд получить, а не о том, кто его сапоги носить будет. А, во-вторых, я говорю не о себе лично, а о классе, которому служу, о деле этого класса…
– Какое дело? Оправдывать все существующее? большое дело, – фыркнул Геннадьич.
– Осмысливать все существующее, – спокойно ответил Сажин, – механик-самоучка при всей своей природной талантливости может додуматься до отрицания и законов тяготения, а механик образованный будет изобретать, руководствуясь этим законом. Вот этот закон и создает материалистическое учение, в основу которого положен чисто научный по своей объективности диалектический метод.
– Знаю, – перебил нетерпеливо Геннадьич, – тез, антитез, синтез и множество надстроек, с которыми до сих пор никто не справился и никогда не справится, потому что то, из чего все вытекает – мое «я» не принято во внимание… Слишком объективный метод, такой же научный, как и все остальные, модная теория, от которой через двадцать лет, может быть, ничего не останется: как было до сих пор, как будет всегда… Я знаю одно, я своей воли никаким вашим законом не отдам. Я вольный, сознающий себя человек, стремлюсь к добру, как понимаю его, и никто мне не смеет запретить идти к цели путем, какой мне кажется лучшим.
– Полное оправдание и всякого произвола, и нравственная поддержка любому бухарскому эмиру…
– Будем лучше петь, господа, – предложил доктор. Но пение не пошло.
– Мне интересно, – обратился во время перерыва ко мне Геннадьич, – как, собственно, вы смотрите на свою и нашу деятельность… Собственно, до сих пор, как писатель, вы определенной физиономии не имеете. «Детство Темы» создало вам популярность. «Несколько лет в деревне» уже вызвало по вопросам об общине некоторое недоумение в доброй семье народников, – так их называет Сажин и с чем я не согласен, – в которую вы вступили; ваши железнодорожные статьи о дешевых там дорогах и совсем в тупик поставили всех: кто же вы? Ваше, так сказать, profession de foi?[9]
– Прежде чем отвечать, я задам вам вопрос: должна ли частная деятельность человека соответствовать его идейной?
– Может соответствовать, может и нет: Энгельс оставил после себя большое состояние, а идейно работал на совершенно другой почве.
– Я работаю в классе крупной буржуазии: в силу рождения, в силу воспитания я в нем. Верю в его творческую силу. Верю, что железная дорога, фабрика, капиталистическое хозяйство несут в себе сами культуру, а с ней и самосознание: здесь образованный человек, машинист, техник – нужны, и не потому только, что я этого хочу, а потому, что он действительно необходим.
– Этою необходимостью, – заметил Сажин, – объясняется и ваша деятельность: культурное хозяйство и прочее. Вы заводите все это, потому что надеетесь иметь выгоду, и не станете заводить это где-нибудь в глухом углу Сибири… Сапожник шьет те сапоги, которые требует рынок, и не станет делать иных. Я хочу этим сказать, что ваши ремесла, – там инженерство, капиталистическое хозяйство и другие, – нельзя назвать ни культурными, ни некультурными, как и всякое ремесло: вы работаете, получаете за свой труд, больше или меньше – другой вопрос… Но это, собственно, еще не profession de foi.
– Совершенно, конечно, согласен, – отвечал я, – одно ремесло еще ничего не дает. Но лично я хотел бы вносить во все свои ремесла не только эту сторону, но и идейную. И в железных дорогах и в хозяйстве интенсивном я вижу средство для достижения цели: более быстрого развития жизни, хотя бы экономической, с которой придет и остальное. В творческую силу такой работы я верю, верю в достижение цели таким путем. А в достижение цели утопистов совершенно не верю; материалистам верю, но думаю, что мы в том фазисе развития, когда точка приложения равнодействующей находится в периоде национального накопления богатств. И, следовательно, просто культурная, прогрессивная работа является наиважнейшей в смысле обширного фронта работ. Для представителей четвертого класса и фронт работ мал, да и в опекунскую работу плохо верю, стать же в ряды этого класса считаю, что это будет невыгодной затратой сил моих, каковым являюсь я во всей своей совокупности.



