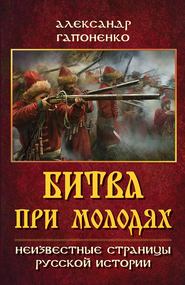
Полная версия:
Битва при Молодях. Неизвестные страницы русской истории
– А может Йосиф на часть выручки закупить и привести в Смоленск сабель турецких, шлемов иранских, доспехов и пистолетов немецких, другого огнестрельного оружия разного для моих воинов? – продолжал допытываться князь.
– Может, почему нет? – ответил Никон и непроизвольно почесал рукой свой рыхлый нос, что было верным признаком больших барышей, которые можно было извлечь из описываемой купцом сделки. – У евреев торговые связи по всему миру есть: и в Турции, и в Иране, и в Германии. Я слышал, что они даже в Новую Индию, иначе Америку, путь по морю проложили, везут сейчас оттуда золото и серебро в Европу. Так много его привезли, что цены на все товары поднялись.
Сейчас с поляками у нас перемирие, и они торговле препятствовать не будут, надо только не скупиться на посулы таможенным кордонам на границе. Йосиф как раз хорошо этим искусством владеет.
Только ты, князь, железные доспехи заморские ему не заказывай – они очень больших денег стоят. У тебя после их покупки на жалование служилым людям средств не останется.
Конон немного помолчал и потом добавил:
– Смотрю, Дмитрий Иванович, что ты серьезно к войне готовишься с татарами. Не пропускай на нашу землю больше басурман окаянных – от них много смертей и страшное разорения идет. Вон, Москву в прошлом году дотла спалили, множество людей в округе побили или в полон увели. Мы тут на тебя надеемся и будем молиться, чтобы победил во всех сражениях. Сами подсобим, чем сможем».
Хворостинин промолчал, поскольку был занят усвоением советов, которые ему надавал его друг.
После недолгого молчания купец сказал:
– У меня для тебя, княже, есть подарок в дорогу.
Конон ненадолго вышел и вернулся с толстой рукописной книгой «Русский хронограф», купленной им недавно у переписчиков в Иосифо-Волоцком монастыре. Книга была в переплете из телячьей кожи, с тонкими серебряными застежками.
– Свободного времени у тебя на новой службе будет мало, – сказал купец, передавая книгу князю. – Однако ты на ночь глядя изредка читай повести, что в этой книге собраны. В Хронографе, помимо библейских, античных и византийских историй, есть повествования по истории русского народа.
Хворостинин принялся рассматривать иллюстрации Хронографа, а Конон продолжил делиться с ним своими мыслями:
– К нам с Запада идет не только ересь латинская, но и разного рода неправды про то, кто были наши предки и как они жили. Знаю, царь Иван Васильевич собрал русские летописи и велел их все подряд в тетради переписывать, да иллюстрации к ним делать, чтоб вся история в лицах предстала. Эти тетради так и назвали – Лицевой летописный свод.
Свод этот сейчас в Александровской слободе пишут. Мне говорили, что в нем не только про царя, его воевод, послов иностранных прописано, но и про простой люд. В тетрадях миниатюры нарисованы, как наши купцы торгуют, мастера шьют одежду, как работают ювелиры, как художники иконы пишут. В тех малых рисунках нам дается новое видение мира.
Раньше на иконах писали только лики Иисуса Христа, Богоматери и Святых. Это для того, чтобы мы могли их чествовать и были способны возвести душу от мира Дольнего к миру Горнему.
Святитель Григорий Нисский так писал про иконы: «Иконы есть грамота для неграмотных… Святые иконы суть те же книги, написанные, вместо букв, лицами и вещами. В них неграмотные усматривают то, что должны по вере следовать. На иконах христиане учатся».
По инициативе царя, Стоглавый церковный собор разрешил изображать простых людей доброго поведения на иконах. Эти иконы люди в храмах теперь лицезреть могут и их примеру жизни следовать.
Я вот думаю, а нельзя ли миниатюры из Лицевого свода или из Хронографа большого размера писать на досках или на холсте в рамках, как это в латинских странах художники делают. Мы бы с купцами такие заказы нашим художникам сделали, да потом эти картины людям показывали, для их вразумления. Не в церквях, конечно, а в специально построенных для того палатах.
Мне в Александровскую слободу пути нет, ты знаешь. А ты, как татар побьёшь, туда наведайся, да испроси у царя дозволения на открытие таких палат.
– Хорошая мысль, Конон, – ответил Хворостинин, продолжая листать страницы «Хронографа». – Помогу. Только мне еще живым надо вернуться с этой битвы.
– Вернешься, Дмитрий Иванович и будешь еще царю Иоанну и народу русскому долго служить на воинском поприще, а про твои подвиги в Лицевом своде напишут летописцы. Господь Бог таких праведных людей как ты, хранит и милует.
Затем, специально меняя тему разговора, купец продолжил:
– Ты тут не ел ничего с утра за разговорами, так хозяйка тебе немного в дорогу еды собрала.
Купец показал на гигантский мешок с едой, который вынес из кухни в светлицу, уже выполнивший все поручения князя в городе Степан.
Посидев еще немного и поговорив о том, о сем, мужчины встали из-за стола, прочитали благодарственную молитву и, по православному обычаю, трижды обнялись перед расставанием.
На глазах Конона навернулись предательские слезы и он, устыдившись этой слабости, отвернулся в сторону и сказал, что провожать князя на крыльцо не пойдет, поскольку ему срочно надо устраивать дело с ремонтом церкви во имя пророка Илии, пострадавшей во время прошлогоднего пожара.
Купец восстанавливал на свои деньги купола построенного полвека тому назад итальянцем Алевизо Фрязиным храма, стоявшего недалеко от его хоромов. И его действительно ждали нанятые артельщики на предмет согласования конструкции новых куполов. Однако артельщики спокойно могли подождать такого серьезного заказчика еще пятнадцать минут.
От своего друга купца Хворостинин поехал обратно в Золотой дворец, за указом царя о назначении на пост наместника, который должны были «приговорить» в земской Боярской Думе, за которой «числился» Смоленск и окружавшие его земли.
Заседание Думы, начавшееся сразу после заутренней, уже закончилось, и Савва передал Дмитрию Ивановичу утвержденный боярами царский указ.
Потом вновь назначенный смоленский наместник пошел с полученной царской запиской, скрепленной малой государственной гербовой печатью, в Казенный приказ, который находился тут же, в Кремле.
У входа в приказ князя ждали Степан с двумя его товарищами опричниками: Михаилом Черным и Андреем Косым. Казенный приказ был еще закрыт по причине раннего времени.
Михаил Черный участвовал в составе земского ополчения в осаде Казани, потом, под руководством Хворостинина, служил на южной границе, храбро сражался с татарами. Сам он был чернявый, очень похож внешним видом на татарина, хорошо знал обычаи этой народности, выучил за долгие годы службы их язык.
С Андреем Косым Хворостинин познакомился при осаде Полоцка. Он был одним из тех двухсот храбрецов, что под руководством князя ворвались в горящий Большой город, вывели из него одиннадцать тысяч русских жителей, а потом побили польско-литовский гарнизон в Верхнем городе. Отличительной приметой этого опричника были огненно-рыжие волосы и чуть косящий левый глаз – следствие удара по лицу сабли польского жолнера.
Когда стали набирать опричников, Хворостинин дал специально созданной для этого комиссии рекомендации на обоих своих товарищей, а потом принял их под свое командование, и никогда не жалел об этом.
Оба опричника были в монашеской одежде, выглядывавшей из-под черных нагольных, то есть не покрытых тканью, овечьих полушубков и в остроконечных черных суконных шапках с беличьей оторочкой.
Рядом с сидевшими на вороных конях опричниками стояло четверо саней, запряженных разномастными лошадьми. Сани были взяты товарищами с собой для перевозки мягкой рухляди. На облучке каждых саней сидел слуга, одетый в такие же нагольные овечьи полушубки и шерстяные суконные шапки, что и их хозяева.
Все всадники были вооружены саблями и пистолетами, а у слуг в санях лежали пищали и топоры с широкими лунообразными лезвиями на длинной ручке – бердыши. Для охраны дорогого груза это вооружение было совсем не лишним, учитывая, что сельские дороги кишели разбойничьими шайками.
Правда, помимо оружия, надежда была еще на то, что лихие люди не станут нападать на отряд опричников, поскольку они имели право без суда и следствия вести расправу над виновными в делах о государственной измене. Поди докажи потом кому-то, что, нападая на опричный обоз в темном лесу ты не помыслил о государственной измене.
Хворостинин поздоровался со всеми и кратко рассказал товарищам о том, какое задание им дал царь.
К концу рассказа князя двери Казенного приказа отворились изнутри и на двор вышли заспанные слуги, которые, похоже, там ночевали. На стражу у дверей приказа встали два подошедших из казармы дежурных стрельца.
Хворостинин и Черный зашли внутрь двухэтажного каменного здания Казенного приказа. Сидевший при входе дьяк проводил их к столоначальнику. Столоначальник прочитал записку из Думы и без лишних разговоров приказал слугам выдать указанную в ней мягкую рухлядь.
Раньше проситель даже не мог зайти в помещение приказа, не дав дьяку или подьячему подарка – посула. Однако недавно царь казнил с полсотни московских чиновников за мздоимство, самовольство и волокиту.
У всех оставшихся на службе перед глазами теперь постоянно стоял образ главы Поместного приказа, который был посажен на кол за то, что требовал с дворян отписки в свою пользу половины от пожалованных царем земель. Мздоимец был жив, после того как оказался на колу, два дня, и все это время истошно кричал, медленно опускаясь вниз под тяжестью своего тела. Этот поучительный пример расправы с коррупционерами весьма благотворно сказался на эффективности работы всех столичных государственных учреждений.
На место казненных родовитых бояр, бывших экономически независимыми и саботировавших многие невыгодные их сословию решения, царь набрал в приказы дьяками и подьячими незнатных людей, показавших свой ум и знания. Этим людям он положил за службу хорошие оклады из казны.
Опричники пересчитали соболиные шкурки, упакованные в холщовые мешки по двадцать штук в каждом, князь расписался за полученное добро в большой амбарной книге и дал команду слугам грузить его на сани.
Во время погрузки тюков на сани во дворе Казенного приказа к обозу подъехал на огромном вороном коне один из самых влиятельных в рядах опричников, да и во всей стране людей – Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. За глаза его звали «Малюта», поскольку был он маленького роста и часто повторял фразу «Молю тя» – старинный аналог нынешнего выражения «Я тебя умоляю».
Скуратов был выходцем из мелкого дворянского рода. Попав в опричнину, он быстро выдвинулся на поприще борьбы с боярскими заговорами: охотно расправлялся с врагами царя, не брезговал собственноручно пытать обвиняемых и казнить осужденных. Наряду с реальными заговорами он часто инсценировал мнимые, чтобы показать Ивану Васильевичу свою преданность и заботу о благе государства.
Недавно Скуратов был введен в Боярскую думу думским дворянином – боярского звания царь ему все же не дал. Тем не менее, он обладал очень большим влиянием, поскольку был необычайно искусен в придворных интригах и в умении влиять на решения царя.
Вместе с Малютой к Казенному приказу на белом коне подъехала молодая девушка в белой песцовой шубе и с распущенными поверх дорогого меха ярко-рыжими волосам. Девушка была невысокого роста, худощавая, с волевым лицом, колючими как у отца глазами. Глаза ее были разного цвета: один голубой, другой карий. Время от времени рыжая всадница поджимала тонкие бесцветные губы и немного поводила при этом голову: слева направо и немного вверх. Таким образом она подсознательно показывала свое презрительное отношение ко всем окружающим.
Присмотревшись, Хворостинин узнал в рыжеволосой девушке дочку Григория Лукьяновича – Екатерину. Она была еще не замужем, и отец часто брал ее с собой в разъезды по Москве и в Александровскую слободу. То ли искал ей так подходящего жениха, то ли знакомил наиболее смышлёную наследницу со своими делами, поскольку сыновей у него не было.
Скуратов подъехал вплотную к стоявшему возле саней Хворостинину, но не поздоровался с ним, хотя знал по длительной совместной монашеской жизни в Александровской слободе.
Так и оставаясь в седле, Скуратов спросил князя:
– В Смоленск едешь? Андрея Шуйского снимать? Смотри, он из могущественного княжеского рода – потомок Рюриковичей. Как бы последствий каких плохих не было лично для тебя.
– Куда Иван Васильевич меня посылает – туда и еду, что поручает, то и делаю. Я человек служилый, личного интереса у меня в смоленском деле нет, – уклончиво ответил Хворостинин и стал помогать слуге привязывать веревкой верхний тюк с мехами к ободьям саней.
– Есть там в твоем воеводстве, под городком Белый, поместье, где мои родственники Бельские живут, а под Вязьмой поместье моего зятя Бориса Годунова. По разряду они все в смоленском ополчении службу нести должны. Ты присмотри за ним, как дело до битвы дойдет, а то они люди хорошие, но в военном деле не очень разумеют. А за мной должок будет.
– Присмотрю. Если в военном деле не опытные, то подучу, – ответил князь, продолжая вместе со слугой увязывать тюки с мехом на санях.
Видя, что Хворостинин не желает поддерживать с ним разговор, Скуратов развернул коня, гикнул на него, и, не попрощавшись, помчался к Спасским воротам. Рыжеволосая Екатерина тоже развернула коня, бросила презрительный взгляд на князя, гикнула и поскакала вслед за отцом.
После отъезда Скуратовых князь прекратил вязать тюки к саням и стал размышлять: «Вот человек, из-за которого всех опричников зовут кромешниками – выходцами из тьмы кромешной, то есть из ада. Как он умеет играть на плотских слабостях царя, поощрять в нем жестокость, мстительность, зависть! Царь постом и молитвами борется с живущими в нем, как и в каждом человеке, темными силами, а Малюта подпитывает его бесов своими нашептываниями, организацией богомерзкого лицедейства, объеданием и опиванием на пирах.
Вот, он родственницу свою, Марфу Собакину, в жены к царю пристроил. А через две недели после венчания она странным образом скончалась. Сам Малюта, что ли, ее убил, когда царь выказал неудовольствие по поводу ее женских качеств?
Сейчас в отношении Шуйского он тоже что-то задумал. Знать бы что? Скуратов не зря дочку свою прихватил на встречу со мной. Хотел, чтобы она меня в лицо знала. Зачем?».
Наконец всю мягкую рухлядь привязали к саням, и их небольшой обоз отправился в путь.
Выехали из Кремля через Спасскую башню на Пожар – образовавшуюся после неоднократно бушевавших в городе пожаров и уже не застраиваемую площадь. От Пожара брали начало улицы Ильинка, Варварка и Никольская.
Когда проезжали мимо собора Рождества Богородицы, князь задрал вверх голову на его золоченые купола с крестами и засмотрелся на них. Храм состоял из высокой шатровой церкви, которую окружало восемь других самостоятельных церквей – приделов. Вначале это были полковые деревянные разборные церквушки, которые царь брал с собой в поход на Казань. По возвращению из удачного казанского похода, привезенные обратно церквушки поставили все рядом на Пожаре, в ознаменование славной победы над басурманами. Через некоторое время деревянные церквушки заменили на каменные и все поставили на общем фундаменте. Каждая из входивших в комплекс церквей венчалась своим, отличным от других по форме куполом.
Центральная церковь собора Рождества Богородицы возвышалась над остальными церквами собора и была одним из самых высоких в Москве сооружений. Сейчас над вершиной этой церкви вились голодные галки и вороны, издавая громкие звуки.
Колокола в городе зазвонили к обедне, что означило наступление полудня.
Колокол на колокольне Рождества Богородице не звонил, поскольку храм не отапливался, и зимой в нем служб не проводили. Зато звон остальных сорока сороков московских церквей был громок, переливался различными малиновыми оттенками и приносил радость всем живущим в столице православным христианам. Хворостинину даже показалось, что это вся Москва торжественно провожает его со товарищи на ратный подвиг.
Обоз быстро проехал полный людей, застраивающийся новыми хоромами, церквями, торговыми лавками, мастерскими Китай-город и выехал в посад.
На самом выезде в посад отряд встретил женщину в черной однорядке и черном платке, повязанном поверх кички. Она несла с реки на широком деревянном расписном коромысле поддетые за веревочные ручки ведра. Ведра были полные воды.
Увидев приближающийся обоз, женщина отошла в сугроб, давая саням возможность проехать по накатанной полозьями дороге. Женщина стояла и грустно улыбалась проезжающим. Лицо женщины показалось Хворостинину знакомым.
– Женщина с полными ведрами воды, – заметил князь. – Эта хорошая примета, к удаче.
Кузнец Гордей Старый

Крестьянин с семьей в избе, рисунок XVII в.
Выехав из Москвы, отряд опричников быстро покатил по наезженной дороге в направлении Можайска.
Под лучами яркого январского солнца искрился снег на ветвях стоявших по обеим сторонам дороги деревьев. По пути изредка попадались на лесных полянах торчавшие из-под белоснежного покрова черные остовы изб и церквей, сожженных татарами прошлой весной. Вновь отстроенных изб было совсем немного. Преобладали едва видневшиеся над снегом землянки, догадаться о существовании которых можно было только по поднимающимся к небу клубам дыма из топившихся в них по-черному печей.
Верст через десять от столицы дорогу вплотную обступили ели и березы, поселения практически исчезли. Снег на дороге здесь была уже слабо укатан из-за того, что окрестные жители ездили мало. Обоз замедлил свое движение. Хорошо еще, что многочисленные речки и ручьи были скованы льдом, а мосты через овраги, пересекавшие дорогу, были отремонтированы, и не приходилось искать объездов.
До Смоленска было почти четыреста верст, и это расстояние можно было спорым ходом преодолеть на санях не быстрее чем за четыре дня.
Хворостинин ехал на своем Буяне в конце обоза и, мерно покачиваясь в седле, размышлял над тем, как выполнить задание, которое ему дал Иван Васильевич. Мысли князя были отрывистыми и никак не соединялись воедино: «Военных сил у нас мало. Отсиживаться с ними за стенами Смоленска будет нельзя. Устоять против превосходящих сил противника в поле невозможно.
Главное – придумать, как защититься от татарских стрел. Нужна какая-нибудь военная хитрость. Советы Конона пришлись очень к месту в торговых делах. Нельзя дать смоленскому Йосифу обмануть себя при продаже мехов, ведь мне раньше не приходилось заниматься торговлей.
А кто мне подскажет, как поступить в военных делах? Уповать следует на себя, да на помощь Божью. А достоин ли я этой помощи?»
Поглощенный этими нелегкими мыслями, князь не заметил, как обоз подъехал к Можайску. Небольшой городок был окружен земляным валом, поверх которого стоял крепкий дубовый частокол, усиленный бревенчатыми башнями. Это было не самое мощное оборонительное сооружение, но для часто появлявшихся здесь татар, а тем более местных разбойников оно было непреодолимо.
Поскольку уже смеркалось, решили заночевать за крепостными стенами. Въехали в город через каменные Никольские ворота, встроенные в земляной вал, нашли постоялый двор, на котором можно было покормить лошадей и перекусить самим. Благополучно переночевали и рано утром двинулись дальше в путь.
Вторую ночь путники провели в Вязьме, третью в Дорогобуже – таких же, как и Можайск небольших городках, обнесенных деревянными крепостными стенами с башнями.
На четвертый день пути, сразу после обеда, неизвестно откуда ветер принес мохнатые черные тучи и из них повалили густые хлопья снега. Разыгралась метель, и стало совсем темно.
Ветер быстро занес снегом дорогу. Сани, которые ехали первыми, то и дело съезжали на обочину и застревали в глубоких сугробах. Всадникам приходилось спешиваться и помогать возничему высвобождать их из снежного плена. Вперед выдвигались другие сани, но через пять минут они тоже застревали в сугробе. Наконец, совсем умаявшись бороться с природной стихией, путники решили искать укрытия от непогоды.
На счастье, Степан заметил недалеко от дороги слабо мерцающий огонек. Отряд поехал на неверный свет и увидел стоящую при дороге кузню с большим сараем для лошадей, а рядом с ней пятистенную избу с примыкающими к ней многочисленными хозяйственными постройками – амбаром, клетью, овином, хлевом с сенником наверху. Из узенького продольного окна избы, затянутого бычьим пузырем, и струился слабый свет.
Подъехав ближе к избе, всадники спешились. Хворостинин пробрался первым через наметенные снежные сугробы к невысокому крыльцу, поднялся на него и постучал в дверь избы. Подождал немного и постучал еще раз, уже громче.
За дверью послышался шум железного засова, она открылась и на пороге избы показался черноволосый и черноглазый бородатый великан в накинутом прямо на белую холщовую рубашку овечьем полушубке, серых портах, заправленных в кожаные сапоги. В одной руке он держал глиняный светильник с плавающем в масле горящим фитилем, а в другой боевой топор с широким полукруглым лезвием. За великаном виднелась фигура черноволосого и еще безбородого подростка в такой же белой холщовой рубашке, таких же серых портах, но уже заправленных в сплетенные из липовой коры лапти. Подросток держал в руках наперевес взведенный самострел с лежащей в пазе короткой металлической стрелой – болтом.
– Кто там ломится в дверь? – громко спросил великан басом.
– Государевы люди, – ответил князь. – Я Дмитрий Хворостинин, со мной опричники Михаил Черный, Андрей Косой и слуги. Пусти, хозяин, переночевать, а то мы в Смоленск ехали, да выбились из сил из-за метели.
Великан поднес светильник к лицу Хворостинина, разглядел его, и уже тихим голосом произнес:
– Проходи, Дмитрий Иванович, и спутников своих приглашай. Тесно у меня, но как-нибудь разместимся. Лошадей с санями пусть слуги в сарае укроют, что возле кузни стоит. Только надо будет лошадей и груз ночью сторожить, поскольку у нас в округе разбойники шалят.
Князь прошел вслед за хозяином в сени. В них укрывались от холода коза с козлятами, несколько овец, куры и гуси. Войдя через сени в горницу, Дмитрий Иванович перекрестился на висевшие в красном углу образа и осмотрелся.
Справа у входа, недалеко от стены стояла большая печь из дикого камня, скрепленного между собой глиной. Печь обогревала горницу и расположенную за бревенчатой перегородкой жилую комнату. Полы в избе были богатые – из половинок тесаных сосновых стволов. Вдоль стен тянулись лавки, над одной из них висела длинная полка со стоящей на ней ребром глиняной посудой. По углам светлицы располагалось два деревянных сундука. Прямо под образами находился большой стол из тесаных досок.
Рядом со столом, за прялкой, сидела моложавая чернявая женщина в белой рубашке и сарафане, с повязанным поверху передником; на голове у нее была кика – цилиндрический, расширяющийся кверху головной убор со спускающимися сзади и сбоку кусками материи.
Женщина, с помощью деревянного прясла, ловко сучила нитку из клока овечьей шерсти, прикреплённого на гребенке прялки.
У ног женщины, на тряпичном коврике сидела очень похожая на нее девочка лет одиннадцати и играла с куклой. Кукла была сооружена из куска шерсти, перевязанного ниткой таким образом, что образовались голова, руки и туловище, одетое в длинную рубаху. Девочка была одета в такую же по форме белую холщовую рубашку и подпоясана верёвочкой так же, как и ее кукла. Ноги у девочки были босыми.
Рядом с чернявой женщиной на лавку сел подросток. На лавке возле него лежали: деревянная колодка под детскую ножку, нож, и кочедык – металлический штырь на деревянной ручке. Под лавкой лежали узкие полоски липового лыка. Похоже было, что брат начал вязать для сестры с помощью кочедыка новые лапти взамен изношенных, валявшихся рядом.
Великан поставил светильник на стол, представился сам и представил членов своей семьи:
– Я кузнец Гордей Старый, это мой сын и помощник Петр, а там жена Наталья и дочь Настя.
Вошедшие вслед за князем опричники перекрестились на образа, поздоровались с хозяевами и назвали себя.
– Наталья, собери гостям на стол, – распорядился Гордей.
Жена встала с сиденья прялки, ловким движением достала ухватом из печи глиняный горшок со щами и поставила его на стол, а затем стала снимать с полки глиняную посуду и расставлять ее на столе.
– Постой, хозяйка, – вмешался Хворостинин. – Мы съестные припасы тоже выставим, нам их с собой в дорогу добрые люди дали.
Он махнул рукой Степану и тот стал вынимать из собранного женой Конона в дорогу холщового мешка копченую свинину, лепешки пшеничного хлеба, сушеную рыбу, лук и чеснок.
Мужчины помолились и сели за стол вечерять. Жена и дочь кузнеца пошли в женский закуток, огороженный занавеской за печью.



