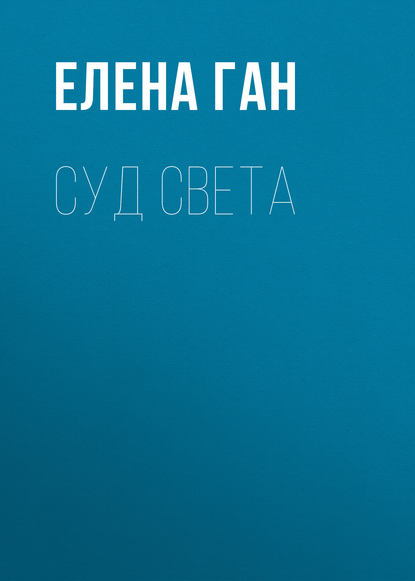 Полная версия
Полная версияСуд света
Чувство стыда, унижения, презрения к самому себе нахлынули кипящею волною на мое сердце, залили, затопили его.
А если мое предчувствие не обманчиво, если завтра назначено мне переступить через рубеж жизни и смерти, если там мать встретит дитя свое, свое любимое дитя, которому с молоком своим она передала последние силы гаснущей жизни, если она потребует от него отчета в том, что сделал он из дарованного господом существования?.. Шатался по свету без пользы для себя и для других; встретил женщину, бросил беззаветно к ногам ее все свое бытие и потом, когда она отвергла непрошеный и ненужный ей дар, напал на нее, беззащитную, истерзал ее, запятнал честь мужа, распорядился самовольно жизнью ближнего и своей собственною… Благородный, примерный отчет твари, носившей звание человека с разумом, с бессмертной душою!
Я был подавлен, уничтожен гнетом этих размышлений и долго, долго сидел как пригвожденный к стулу. В таком положении застал меня свет дневной. „Пора!“ – сказал тогда внутренний голос, возвращая мне силы и память настоящего.
– Пора! – повторил я вслух и, укоряя себя в малодушии, вскочил, взял пистолеты и отправился на место дуэли.
Мой противник был уже там с другим молодым офицером, который, по просьбе моей, принял на себя должность общего нашего секунданта; в то время как он осматривал и заряжал пистолеты, я бросил любопытный взгляд на моего счастливого соперника, которого накануне, в пылу страсти, не успел разглядеть хорошенько. Он был еще в первом цвете весны; юношеский румянец рдел на его щеках; он показался мне таким хорошим, в чертах его отражалось такое прямодушие и благородство, что я понял, как сильно мог он быть любим женщиной и в какое отчаяние может ввергнуть смерть его любящее создание. Я понял и, кипя обновленной местью, как дикий зверь, измеряя его глазами, заранее метил в него пулею, которая должна была пробить два сердца; я мысленно уже упивался его кровью и ее слезами.
Секундант, отмерив расстояние, вручил нам пистолеты; мы начали медленно сближаться, по сигналу раздались два выстрела: я почувствовал удар в ногу, противник мой опрокинулся навзничь.
– Всеволод!.. Убит! – закричал секундант, разрывая его одежду и стараясь унять кровь, которая горячею струею сбегала на снег.
За минуту до того я хладнокровно наводил пистолет против сердца юноши, жаждал его крови, но слово: „убит!“ – заставило меня вздрогнуть. В одно мгновение ненависть моя исчезла; я забыл в нем соперника, видел только человека, убитого мною; совесть громко завопила против убийцы, и, несмотря на собственную рану, я бросился к умирающему.
При звуках моего голоса он открыл глаза, устремил на меня взор, уже подернутый пеленою смерти, сделал последнее усилие и глухим, едва слышным голосом простонал:
– Вы убили честь… невинной… и убили… брата… В свете… оправдайте ее…
– Брата?.. брата?.. – вскричал я в ужасе.
Но передо мной лежал уже труп. Губы его сомкнулись; глаза закатились; жизнь, так недавно игравшая на лице ярким румянцем, сменилась смертною бледностью; страсти, двигавшие чертами, уступали место бесчувственному спокойствию; и в этой бледности, в этом спокойствии, мелькнуло мне сходство… Страшная истина поразила меня, как проклятие господнее. Свет потемнел в глазах; убийца упал без чувств на труп убитого…
Не помню, как привезли меня домой и сколько времени лежал я в беспамятстве: сильнейшая горячка овладела мною; более месяца смерть носилась над одром моим и я звал ее, вымаливал, как знамение милосердия небесного, но жизнь и молодость одолели. Я выздоровел.
С обновлением сил возрастало во мне и чувство греха моего. За что сгубил я невинного? За что лишил сестру брата, преданного ей брата, быть может, единственного друга ее на земле?.. И в то же время люди, которые с таким неистовством кричали против Зенаиды, теперь сожалели о ней, изыскивали все средства, чтобы терзать меня. От них я узнал будто нечаянно, стороною, что Зенаида, возвратившаяся от отца накануне приготовленного для нее бала, привезла с собою брата в гости к своему мужу; она и убитый мною юноша были единственными детьми старого заслуженного дворянина; что после ужасного происшествия злоязычие с гибельной быстротою донесло отцу о бесчестии дочери и смерти сына; что старик не перенес двойного удара, и когда дочь, не зная, видно, ничего о низком поступке моем на бале, полетела к отцу, чтоб осторожно уведомить его об их общем несчастии, старик не хотел даже видеть ее и умер на чужих руках; что после того Зенаида отказалась от света, заключилась одна в своей деревне и там, отвергая все утешения родных, все пособия медицины, гасла, как догорающая свеча. Поздно также узнал я, что князь Свегорский и брат ее оба были адъютантами и что случайное сходство роста и физиономии не раз заставляло в обществе принимать их одного за другого.
Несколько месяцев я был под арестом; меня судили; снисхождение уменьшило вину мою; в обществе еще скорее извинили меня, но наказание я носил в груди своей, наказание, против которого все кары людские и все мнения света показались бы мне ничтожными. Воображение мое носилось страшными призраками: во сне и наяву мне грезились лики убитого юноши и умирающего отца, отчаяние сестры и дочери и поминутно слышались прерываемые смертным хрипением слова: „Вы убили честь невинной и убили брата ее!..“ И в дополнение мук вся прежняя любовь моя к Зенаиде вспыхнула с удвоенною силою. Пусть была она виновна против законов света и даже нравственности; пусть хитро обольстила меня и других блеском поддельных достоинств; ее легкомыслие, коварство, вероломство – все исчезало в сравнении с низостью и чернотою моего поступка, все тонуло в огромности моего преступления.
Да! В ту пору я все извинял ей и любил невыразимо! Казалось, все ощущения мои, теперь оторванные от света, мое убитое честолюбие, желание славы, самонадеянность, гордость безупречной жизни, мои уничтоженные прошедшее и будущее, словом, вся жизнь моя сосредоточилась в одном чувстве, и это чувство было любовь к ней. Суди же, что стало со мною, что должен был я почувствовать, когда, по прошествии нескольких месяцев, мне подали письмо – письмо от Зенаиды, – и когда из первых строк я узнал, что голос ее нисходил ко мне с высот другого мира, что Зенаида уже не существовала и в последнюю минуту жизни, примиряясь с небом и людьми, прислала мне прощение, мне – убийце всего, что было ей дорого на земле!..
А я в безумии любви еще надеялся вымолить, выстрадать свидание с Зенаидой, чтоб услышать слова прощения из уст ее… Я питался и жил этой надеждою!.. Теперь все, все было для меня кончено!.. Теперь жизнь была для меня страшнейшим из мучений. Мысль о самоубийстве стала искушать меня; я радовал, нежил себя ею. Но нет! Не так должен я встретиться с Зенаидой в вечности, еще с горячей кровью брата ее на руках, с печатью отвержения и проклятия на челе; нет! Смерть для меня была отрадою, спасением, но я заслужил наказание; да будет же наказанием мне жизнь!
И я жил!.. Раскаяние изгрызло мое сердце, скорбь иссушила тело, ни на одну минуту не вздремнула во мне память прошедшего, медленно, вечно терзала она мою внутренность, сосала мою кровь. Но я жил и жил двадцать лет!
Письмо Зенаиды, священный залог нашего примирения, хранится и теперь на груди моей и ежедневно принимает мои жгучие слезы, мою неумирающую тоску. Оставлю тебе копию его, но с ним, молю, не разлучайте меня и после смерти. Пусть сойдет оно со мною в могилу и там, перед престолом всевышнего, исходатайствует прощение грешнику, свидетельствуя об его терзаниях на земле…»
Копия письма Зенаиды Н***Влодинский, вы убили моего брата, отца, убили меня, но я пишу не с тем, чтоб укорять вас, а чтобы простить, – простить от всей полноты души, не сохранившей ни одного упрека против несчастного.
Да, Влодинский, я прощаю вас. Вы слепец, а не преступник; вы только такой же человек, как все люди: более слабый и, легкомысленный, чем злой; вы увлеклись лживой наружностью: да простят вас бог на небеси и ваша совесть на земли, как я вас прощаю!
Когда взор ваш упадет на эти строки, мой прах будет уже покоиться с прахом семьи моей, наши души сольются в одну молитву перед господом, и он, милосердный, ниспошлет вам спокойствие, которого не дадут вам более ни шум света, ни мир одиночества.
Вот все, что я хотела сказать, что желала бы запечатлеть в душе вашей, когда люди сметут мой прах с земли и имя мое с вашей памяти; вот что начертала я еще в ту пору, когда смерть отца и брата упала обвинением на мою голову и я, чувствуя, как все жизненные начала пресеклись в моем сердце, не думала пережить рокового удара… Провидение судило иначе. В то время как тело, повинуясь закону природы, упорно боролось с тлением, вся сила памяти и чувства вспыхнула во мне в последний раз. Я поняла, как трудно душе, даже отделяясь от тела, оторваться от всего земного, очиститься от всего, что было жизнью ее жизни. Да, Влодинский! На краю могилы я горю еще желанием оправдаться в мнении единственного человека, который умел понимать меня, желанием оставить имя мое незапятнанным хоть в одной благородной душе.
К тому ж, мне кажется, когда пройдет ваша молодость, когда стихнут страсти, то даже для вас будет отрадно оправдание мое. Вы любили меня: я это видела и чувствовала. Вы посвятили мне все, что было прекраснейшего в вашем сердце и вашем бытии: не сладко ли же будет вам освятить память о вашей первой, чистой любви сознанием моей невинности?
Вот что побуждает меня обратить к вам последний звук моего голоса: требовать от вас уважения хоть праху той, которая была до того горда, что не могла оправдываться при жизни и выпрашивать чувства, отвращенные от нее клеветою.
В этих строках заключается исповедь заветнейших тайн души моей. Теперь я могу судить о себе со всем беспристрастием посторонней особы, потому что моя прошедшая жизнь уже отделилась, отошла от меня, готовой кануть в могилу. Верьте же словам моим, Влодинский, выслушайте меня терпеливо, со снисхождением к просьбе женщины, которая ни о чем более никого не попросит.
Нас было двое; мы взросли в глубоком уединении. Не знаю, что было причиною отчуждения наших родителей от света и людей; думаю, их счастье. Им нечего было искать вне круга семейной жизни. Наши первые годы протекли под надзором их, охраняемые любовью нашей матери. О! какой любовью!.. Если я скажу вам, что она была нашей кормилицей, няней, наставницей, нашим ангелом блага на земле, то все еще не выражу той бесконечной, бескорыстной, всем жертвующей привязанности, которою счастливила она наше детство. Для меня в особенности тем драгоценнее были ласки ее, что нежность отца вся обращалась к брату. Однако ж я не знала зависти, напротив, когда понятия мои начали развиваться, я полюбила брата двойною любовью, любовью сестры и обожания моего к отцу; потому что я обожала его; потому что уважение всех окружающих нас, его высокое благородство, правдивость внушали мне благоговение, в то время как его строгое, безулыбочное лицо и постоянная молчаливость заставляли меня трепетать в его присутствии.
Мать моя по характеру была точною противоположностью нашего отца. Молодая женщина с сердцем доверчивым, любящим, с умом живым и деятельным, она всему сообщала характер своей непорочности, во всех видела отражение собственной доброты; весь мир казался ей светлым и прекрасным, как душа ее. Под лучами этой теплой благотворной души развивались мои чувства и зрел ум, под ее влиянием протекла вся жизнь моя.
Я рано начала жить, будто предчувствовала, что мне назначен недолгий век; я торопилась тешиться жизнью, угадывала по инстинкту, что моя прекрасная заря смутится бурями полудня. Мне не было еще тринадцати лет, когда скончалась наша мать; с нею кончились мои радости… Перед смертью она поручила мне брата, гораздо моложе меня, от рождения слабого и больного, и мне завещала спокойствие отца. С той минуты я была предоставлена полной, дикой свободе. Отец, убитый горем, посвятил себя исключительно воспитанию брата: я добровольно присутствовала при всех его уроках, и строгие суждения его об обязанностях гражданина, о чести, благородстве, готовности к самопожертвованию глубоко западали в мою душу. В остальное время я читала без разбору все, что заключалось в нашей библиотеке, бродила в рощах, в полях или, разделяя игры и упражнения брата, объезжала с ним верхом окрестности.
Ум мой обогащался познаниями, воображение распалялось изучением геройских времен: я привыкала глядеть на мир в огромных объемах, знакомилась с великими событиями истории, со страстями и деяниями людей, облагородивших человечество, и оставалась чуждою только бледных мозаик вседневной жизни, не знала сказаний и обычаев только наших светских муравейников.
Незаметно характер мой образовался по впечатлениям ума, закалившись в гордости, в твердости, в любви к родине и приняв все оттенки мужеских добродетелей. В вашем кукольном свете, так грубом со всей его утонченностью, мои ум и сердце зрели под влиянием понятий золотого века; с ними созрели они и окрепли. В пятнадцать лет я все понимала умом, все постигала сердцем; уже в ту пору мнения и чувства мои были выше всех внешних влияний; изменить их можно было не иначе как переплавив на огне одной из сильных страстей: тогда разве повиновались бы они новым впечатлениям, приняли бы иную форму?
Сестра отца моего переселилась из Москвы в город, от которого мы жили верстах в семидесяти. Она навестила нас и, изумившись моей одичалости и неловкости, начала укорять моего отца, представила ему всю важность наружного воспитания для девушки, говорила там много и красно, что убедила его поручить себе мое преобразование. Я переселилась в ее семейство.
Она была женщина светская, холодная, ко всему равнодушная, без всякой определенной черты в характере, без воли, без мнения и полагавшая весь ум и все достоинства в исполнении самых мелочных статей уставов общества. Всякая мысль, не прогнанная сквозь цензуру света, не наведенная его лаком, казалась ей преступлением; всякое самобытное чувство – грехом смертельным. Такими правилами вскормила она своих дочерей, и в этот-то омут упала я из моего мирного уединения; однако ж я долго еще не замечала его бездн и водоворотов. Меня, по робости, пугала мысль о вступлении в свет, но в воображении моем он представлялся великолепным театром, на котором разыгрываются блистательные роли, знакомые мне по истории и романам. Все лица, по моему мнению, двигались в нем стройно, согласно; все происшествия клонились к славной развязке. И в этот мир я принесла с собою сердце чистое, исполненное любви и теплого упования на доброжелательство людей, святые понятия об их добродетелях и пламенную веру в мою хоть малую долю счастья на земле.
Не прошло и года, как мои невинные верования, мои чувства, для всех открытые, были измяты, раздавлены недружелюбием людей, их злоязычием и злопамятством, их упорным стремлением всегда открывать золото в кармане ближнего и черное зло в его невиннейших поступках. «Отчего это, почему это?» – твердила я в недоумении, сравнивая сущность с рассказами моей матери, с суждениями отца, и переходила из одной крайности в другую. Я ожесточалась против всех и каждого. Бедные люди! Я винила их в том, что они были людьми, а не небожителями, какими рисовало их мое воображение. Я не могла верить, однако ж, чтобы весь свет был подобен тому, в котором началось поприще моей жизни; в толпе людей, окружавших меня, я не хотела признать человечества и от всей полноты души предавала его презрению.
Это было основным камнем всех моих заблуждений.
В доме тетки я жила в угнетении и совершенно отчужденною от всех. Никто не умел или не хотел понимать меня; я, со своей стороны, также не могла примириться с их образом мыслей и поступками: меня гнали, осыпали насмешками, на всяком шагу язвили мое самолюбие; и, наконец, мою застенчивость, твердость характера, которую они называли упорством, резкость мнений, нелюдимость мою – все приписывали недостатку ума и определили меня словами: «она глупа, следственно, неизлечима». Я холодно приняла их приговор и с гордостью отвергла все средства к оправданию.
Когда брату исполнилось пятнадцать лет, отец, желая наблюдать за первыми шагами его вступления в свет, определил его юнкером в полк, незадолго до того занявший квартиры в нашем городе. Тогда детская дружба наша с братом возобновилась и затянулась узами, запечатленными его драгоценною кровью. На нем соединила я всю нежность сестры, всю заботливость матери и, еще не исцеленная от ран, нанесенных борьбою с обществом, собрала все силы свои, чтоб указать ему скрытые камни, о которые разбилась в слепоте моей неопытности, чтоб охранить его возлюбленную голову от грозы, измявшей мою душу.
Теперь настает пора, о которой мне трудно, больно рассказывать. На краю могилы я примирилась со всеми: не хочу никого обременять обвинениями; но не могу умолчать о главной эпохе моей жизни.
Старшим начальником брата был генерал-майор Н***, он искал руки моей; но я так мало знала его, мне казалось так невозможным отдаться человеку нелюбимому, почти незнакомому, что я, не колеблясь, отказалась от предлагаемой мне чести, невзирая на все возгласы моей тетки. Но вскоре обстоятельства изменились. Брат мой сделал одну из тех шалостей, для которых военная дисциплина неумолима. Генерал имел право и хотел показать над ним торжественный пример своей строгости. Все старания наших родных остались безуспешными. И, затаив гордость, я решилась сама прибегнуть с просьбою к генералу! Случай скоро представился; при первом намеке моем о брате он принял холодный вид; на все мои моления, заклинания он отвечал пожатием плеч или протяжным: «крайне сожалею», ссылаясь на обязанности начальника, наконец, когда, истощив, все свое красноречие, я стояла перед ним в слезах, с отчаянием в сердце, генерал, переменяя вдруг тон и голос, начал говорить мне о любви своей и заключил все словами: «Начальник не может ничего извинить подчиненному, но легко простит все оскорбления брату!» – и он оставил меня с низким поклоном. Участь брата была в моих руках, могла ли я колебаться?
Но, размышляя о поступках генерала, я полагала его в заблуждении против меня и считала обязанностию открыть ему истину. «Он любит меня, – так думала я, – желание обладать мною понудило его быть неразборчивым в средствах к достижению своей цели». Но, настаивая так упорно в своем желании, он, верно, считал меня ребенком с мягким характером, покорным всем новым впечатлениям.
Отвергнутый однажды мною, Н*** мог еще надеяться, что привычка заменит чувство, что со временем его любовь вызовет мою взаимность, без того он, конечно бы, не добивался моей руки. Но я, даже для спасения брата, должна ли я была, забыв честь и совесть, оставить его в заблуждении? Не должна ли я открыть душу ему свою, уверить в невозможности его предположений?.. Своей свободой я могла располагать и радостно жертвовала ею спокойствию родных; но обмануть человека, воспользовавшись его слепою страстью, я не могла, не хотела, хоть бы от того зависела даже жизнь брата моего.
Едва я вступила в свет, как многие уже искали было руки моей, но я отвергла все предложения, не оставив никому и тени надежды. Привыкши считать любовь и супружество нераздельными, я смотрела на них с особенной точки зрения. Посреди общего крушения моих светских идей одна только сохранилась во всей силе своей – идея о возможности истинной вечной любви. Я уповала на нее, верила в осуществление моей утопии, как в жизнь свою, и, нося в груди зародыш священного чувства, не истрачивала его на мелочные привязанности, берегла как дар небес, который мог осчастливить меня только однажды в жизни. Все изъяснения в прозе и стихах моих писателей казались мне жалко бедными, не стоящими и одной искры моего прекрасного огня. Чувствуя, сколько энергии таится в груди моей, каким раем любви могу я подарить любимого, я не желала продать своего сокровища за бедную лепту неимущего; считала преступлением слить чистое пламя с ракетным огнем, разбрасываемым на всех перекрестках, и лучше хотела задушить в себе неизведанным этот напрасный дар, который не мог ни дать, ни выкупить счастья, чем лицемерно посулить его легковерному искателю и зарыть потом в груди, чтобы довольствоваться его скудными крохами холодной полувзаимности.
Вот как я понимала супружество, вот как хотела изобразить его генералу и предоставить суду его, может ли он искать счастья в связи, где нет даже надежды внушить сочувствие, не только любовь. О своем благополучии я и не думала с тех пор, как его бросили на весы с прощением брата.
На следующее утро приехал генерал, – я приготовилась к его посещению, – по просьбе его мы остались наедине; тогда, исполняя свое намерение, я открыла ему свои чувства, образ мыслей, всю святыню души моей, недоступную еще ни одному смертному, и ждала его приговора.
Н*** выслушал меня не прерывая, со снисходительною улыбкою опытности, потом подвинул ко мне стул свой и сказал:
– Все мы тешились в семнадцать лет подобными мечтами; в мои лета смотрят на них, как на хрустальные игрушки: красивы, но не прочны!
Вслед за тем он повторил свое предложение, я приняла его; брат получил прощение, не подозревая, какой ценою искупалась вся его будущность. Н*** требовал только, чтобы Всеволод не служил под его начальством, и взял на себя хлопотать о переводе его в гвардию. Всеволод тотчас уехал в Петербург с рекомендательными письмами генерала; отец одобрил мой выбор; я вышла замуж, извиняя решимость опытного Н*** страстью ко мне; но вскоре его заботливость о скорейшем выделе моего значительного приданого рассеяла и эту утешительную мечту.
Судьба моя свершилась! Мне не оставалось более ничего желать, ничего надеяться; что могло принести мне время? Между тем тонкий, веселый ум моего мужа, приправленный всею едкостью иронии, ежедневно похищал у меня какое-нибудь сладкое упование, невинное чувство. Все, чему от детства поклонялась я, было осмеяно его холодным рассудком; все, что чтила как святость, представили мне в жалком и пошлом виде. Незаметно, вместе с верою моею в прекрасное, исчезали утонченность и разборчивость моих понятий. Шутки, доводившие меня прежде до слез, теперь не вызывали румянца на щеках моих. Я свыклась с любимым чтением мужа моего, с его суждениями, даже с грубыми каламбурами людей посторонних, которые, стараясь подладиться под тон хозяина дома, сыпали наперерыв остротами, не скрашенными даже его остроумием.
Давно, еще до замужества, заметив, что лучшие побуждения мои перетолковывались в дурную сторону, что из всякого поступка, из всякого слова моего люди находили средство выжимать эссенцию смешного, я свергла с себя иго их мнения. Теперь оно показалось мне еще презрительнее, когда особы, называвшие меня глупенькой девчонкой, стали величать умной и любезной женщиной оттого только, что случай набросил на меня чин генеральши.
Не связанная почтением к обществу, ни боязнью его приговоров, я жила в свете, как в пустыне, где лишь камни да перелетные облака были моими свидетелями; жила под влиянием собственного уважения к себе и примера моей матери, а людские мнения считала миражем, который никого не прохладит, не утолит ничьей жажды, а обманет тех только, кто смотрит на предметы издали, сквозь этот лживый пар. Никогда мысль преступная не оскверняла меня, но я не принуждала себя строго следовать общепринятым обычаям, не маскировалась перед толпой, не гналась за ее хвалами, не страшилась ее порицаний: словом, во всех чувствах и поступках я отдавала отчет только верховному судье да представителю его на земле – моей совести.
Как обыкновенно случается, чем меньше заботилась я о людях, тем более хлопотали они обо мне. Глаза и уши этого вездесущего ареопага тщательно следили за мной; явное пренебрежение мое к его определениям ожесточало общество против меня и наконец посеяло в нем то мнение, которое впоследствии сделалось судом света и причиною моей погибели. Но в ту пору я не предвидела еще ничего грозного, быть может, оттого, что, не ожидая ничего, я вовсе не заботилась о нем.
Свет безжалостно подшутил надо мной, осмеяв все понятия моего детства, развеяв все сокровища моих надежд. Ни одна мысль моя о нем не оправдалась, ни одно ожидание не сбылось. Единственный предмет, в котором я не нашла обмана, был ум человеческий – ум творческий, игривый, разнообразный, которому я издавна поклонялась еще в творениях его.
В большом свете, где необходимая образованность и беспрестанный прилив чужих идей придают род блеска самым незначительным умишкам, даже истинно гениальный ум не столько поражает своею лучезарностью, как в совершенном мраке малого света. Там он сообщает другим свою живительную силу, озаряет умы других, и при свете его они также красуются, отражая заимствованное у него сияние. И к тому ж там внимание общества так развлечено пестротой окружающих предметов, что тысячи проходят мимо гения и не замечают его. Напротив, в быту, тесно очерченном застарелыми привычками и скудной вседневностью, которые давят и нередко уничтожают все способности в зародышах, в глуши, куда с трудом пробивается только предсветный луч просвещения, человек с высоким умом и познаниями блистает, как дивный метеор. В подобном быту прозябала я, и только эти редко встречаемые метеоры привлекали мое внимание, возбуждали во мне непритворное удивление. Правда, что порою, обрадованная встречей с умным человеком, очарованная силой и блеском его ума, я была рада новому знакомству и случаю перелить свои идеи в светлое воображение, была даже не строго разборчива в предметах наших разговоров; но, свыкнувшись поневоле с свободным изъяснением мыслей плоских, пошлых, как было мне не извинить в умном человеке свободного выражения, увитого всеми цветами остроумия?

