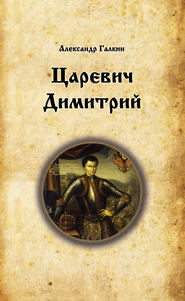
Полная версия:
Царевич Димитрий
– Не тронь его! – раздалось от задней стены.
– Не смей имать!
– Стрельцы! Не трогай! Уходите! Не дадим хлопца!
– Мы тож про царевича слыхали!
– Жаль, что не видели!
– Говорят, он жив!
– Бей стрельцов!
Стрельцы остановились, некоторые уже повернули к выходу и, вероятно, ушли бы все, да тут вошёл в кабак их сотник вместе с воеводиным дьяком.
Они, грубо расталкивая народ, не снимая дорогих шапок, проходили вперед.
Люди расступались перед ними, но никто не бежал на улицу, как это было бы в таком случае в Москве.
Начальник, толкнув двух стрельцов, зарычал:
– Ну, что же стали, сукины дети, як столбы? Плетей захотели? Вечор своё получите! Имайте изменника и вора! Вяжите его! Аль забыли наказ воеводин! Живо!
– Стой! Стой! – закричали сзади.
– Кто орёт «стой»? Кто? Я тебе покажу «стой»! – повернулся сотник, вытаскивая пистолет и направляя его на одного из сидящих. – Ты кричал?.. Ты?
Неизвестно, чем бы кончилось это дело, – стрельцы уже схватили «вора», он кричал о невиновности, настроение у остальных приподнималось, крики с разных сторон продолжались, и, может быть, пьяная толпа решительно заступилась бы за парня – но в это время случилось совершенно неожиданное обстоятельство.
В горницу ввалилось человек шесть богато одетых и хорошо вооружённых казаков с седоусым казачьим атаманом во главе.
– Гей! – крикнул последний. – Шинкарь! Вина на всех! И мне кубок венгерского. Слухайте, люди! Кто тут не лях, не жид, а православный?.. Клянись тот именем Христовым на верность царевичу Дмитрёю Московскому!
– Что? Дмитрею? – быстро перебил его дьяк. – Держите вора!
– Се кого ж держати? Меня, что ли? А у тебя голова разве лишняя?
– Говори, батько! Сказывай! Плюнь на них! – разом зашумел кабак. – Хотим царевича! Не выдадим!
– Слухаем атамана! Уймитесь! Молчите!
– Царевич с войском своим вольным подошел ко Днепру реке, по ту сторону ныне стоит и заутра к нам переправу творить будет, малость повыше Деснинска устья. Наши встречать уже выехали, броды ему указали, две суды по реке пригнали, и я сам очами своими видел его милость и баял с ним. Приветы шлёт он воинству нашему, обещанья знатные, льготы, земли людям дарует, обласкал, як детей своих, красавец наш коханый! Пошли ему Господь успеха! Выслал он нас к воеводе в Чернигов с грамотой и повелел воеводу того к присяге привести. Были мы у воеводы и днесь оттоле. Не принял он присяги, потому попа, бает, под рукою нету, ну, а при нас клялся царевичу, без крестна целованья, и государем его признал. Через три дня и сам царевич здесь буде. Православные! Конец москальским собакам, дьякам и воеводам! Пью за здравие государя Дмитрея Ивановича! Ура!
– Ура! – дружно и во всю глотку гаркнула толпа. – Да жив буде! Наш царевич! Ура! Идём к нему! Бей стрельцов! Держи крысу!
Но стрельцы и дьяк-крыса не заставили себя ждать, а своевременно улизнули во время речи атамана.
Через несколько дней Димитрий в сопровождении блестящей свиты, шляхтичей, казаков и повстанцев торжественно въехал в Чернигов. Чуть не весь город вышел встречать новую власть за вал, на большую дорогу, и тысячная толпа всякого люда приветствовала царевича несмолкаемыми восторженными кликами, бросая на путь зелёные ветки, расстилая одежды, стреляя из ружей, заглушая колокольный звон и звуки волынок. Воевода подносил хлеб-соль, протопоп благословлял крестом и кропил святой водою, певчие пели «Осанна!»
На ступеньках каменного крыльца большой старинной соборной церкви, что на той же площади, где и кабак, было разостлано алое сукно, по перилам же висели шитые золотом бархатные скатерти. Тут стоял в блестящем облачении архиерей с крестом, по бокам его – попы с иконами, дьяконы с кадилами, церковные певчие, стрельцы в красных кафтанах с бердышами, а за ними воеводины домочадцы и всякая челядь, упавшие при появлении царевича на колени. Димитрий был одет в короткий русский кафтан малинового бархата с золотыми нашивками и смушковую казачью шапку с золотым русским орлом на ней. Спокойной поступью взошёл он на крыльцо, принял благословенье епископа, приложился к иконам и проследовал в собор. Выйдя оттуда, он широко взмахнул рукою – клики, гомон стали быстро смолкать, указал на колокольню – и там прекратился звон. Тогда с величавым жестом Димитрий обратился к морю непокрытых голов, наполнявших площадь.
– Православные! Дети наши возлюбленные! Божьей милостью мы, царевич Дмитрей, сын блаженной памяти государя царя Ивана Васильевича – упокой, Господи, его душу! (он перекрестился, а за ним вся площадь) – ныне, после долгого безвестья, являемся всему народу нашему! Господь Бог дивным промыслом своим чудесно сохранил нас от руки изменника Бориса Годунова, иже на царстве нашем днесь сидит обманно и преступно. Мы идем престол родительский имати и всех вас призываем – и воевод, и купцов, и казаков, людей посадских, и беглых, кабальных, чёрных и всех протчих без различья – служить нам и во святом нашем деле помогати! И всем вольности старинные даруем! Нет боле кабалы на царстве нашем! Нет записей о беглых и нарицаний! Всяк волен домой идти без сумненья. Десятину царскую – Борисову, что по градам здесь наложена, снимаем с вас, и хлеб, что в лето сие собрали, боле в закромы воеводины не возите, а себе берите и вкушайте во здравие, с благословеньем Божьим и нашим изволеньем. Войску моему храброму, как русскому, так и польскому, скажу днесь: живите здесь тихо и обид никому не чините – то не в чужих землях идём. Нову жизнь начинаем, православные! И да будет правда на святой Руси стоять крепче всех твердынь земных. Аминь! – Подняв поданный ему кубок, он продолжал: – Пью за войско моё доблестное, за казачество преславное и за любезных чад моих, встречею своею меня почтивших! Да здравствуют на многи лета!
Неописуемый восторг охватил народ после этой речи – радость несытых людей, у которых сегодня будет хлеб! Кричали все, кто только мог, женщины и дети не отставали от мужей и отцов: «Да здравствует царь Дмитрей! Здрав буди! Отец наш! Все за тебя! Веди нас! Ныне хлеб получим! Не выдадим! Смерть воеводам!» В порыве энтузиазма толпа инстинктивно придвинулась к собору, махала шапками, орала, теснясь вплотную, желая ближе увидеть давно жданного вождя-избавителя. Огромный казак, протискавшись с большим трудом к самому крыльцу, выпучив глаза, красный от натуги, вдруг гаркнул перед Димитрием:
– Здрав буди, царь Митряй! – И с размаха упал ему в ноги. – С собой возьми! Послужу ти головою!
Весь этот день веселился народ в Чернигове. Двадцать бочонков вина было выкачено за счёт царевича на улицу. Песни, пляс, бандуры не умолкали до ночи; имя избавителя было у всех на устах, одновременно с проклятьями по адресу московского правительства.
Расположившись в воеводином доме, Димитрий в тот же вечер написал парю Борису письмо, в коем, не именуя его по титулу, предлагал ему оставить престол и добровольно удалиться в монастырь, обещал в таком случае неприкосновенность как ему самому, так и его семье, а равно и довольствие безнужное до конца дней. «Ибо всё равно тебе, Годунову, на царстве боле не сидети, потому что вся земля русская того не хочет, за мною же народ с радостью идёт!»
Он хотел послать это письмо в Москву с тем самым черниговским воеводою, что встречал его сегодня за градом, коего хотелось ему удалить. Но, понимая, что боярину сему теперь, после присяги новому царю, неудобно являться перед очи Борисовы, боялся, что может воевода, уничтожив письмо, отъехать, вместо Москвы, в другое место, а потому решил вручить ему грамоту при свидетелях в какой-нибудь церемонной обстановке, с архиереем. Но заботам о сохранности письма помогло случайное обстоятельство. Утром к нему привели избитого человека, с кровавыми синяками на лице, всклокоченной бородой, без шапки, в порванном дьяческом кафтане, и объяснили, что это один из трёх людей – московских дьяков, приехавших сюда с грамотой царя Бориса для прочтения её в соборе после обедни, и что они уже были в других городах и там её читали. Двоих его товарищей черниговцы так избили, что они лежат в придорожной крапиве и едва ли встанут, а за этого – главного – заступился атаман казацкий и приказал волочить его к царевичу вместе с царской грамотой. На расспросы Димитрия об имени и звании, о посещении других мест и прочем задержанный отвечал весьма неохотно и скупо, а когда царевич предложил ему остаться у него на службе, дьяк замолчал совсем.
– Прикажи, государь, – вмешался атаман, – повесить собаку на первой осине. – Нет, – ответил Димитрий, – он верно служит своему царю, и я хотел бы, чтобы мне мои люди так же служили. Пусть едет в Москву вместе с воеводой и передаст моё письмо Борису Годунову – сего ради и жизнь ему дарую. – Он сообразил, что избитый и оставшийся верным Борису дьяк, не имея причины скрываться от своего царя, конечно, доедет до Москвы и передаст послание.
В грамоте, отобранной у дьяка, он прочитал казённое извещение от имени царя и патриарха ко всем городам и посадам о появлении самозванца – бывшего монаха Гришки Отрепьева, именующего себя царевичем Димитрием, о предании его анафеме и необходимости борьбы с ним всеми средствами. Размышляя над этим документом, царевич понимал, с какой стороны грамота может быть опасна: широкие народные массы, низовые люди ей не поверят, сочтут за простую клевету бояр московских – за неделю общения с казаками, со времени перехода границы, он убедился в этом, – а вот для всякого рода служилыхлюдей, стрелецких сотников, дворянских господарчиков и грамотных попов царское послание может оказаться не бесплодным и внести немало сомненья, особенно при ошибках самого Димитрия в поведении или – ещё вернее – при поражении его на поле битвы. Правда, в войске у него таких людей немного, но по городам, посадам, монастырям их встретишь на каждом шагу, и они в местах своих влиятельны, а потому следовало бы что-нибудь предпринять, дабы с ясностью для всех опровергнуть грамоту Борисову, но что надо сделать, он пока не мог придумать.
Но дело это, конечно, не первой важности, главное же теперь – это воспользоваться подъёмом народного духа, какой он наблюдал при въезде в Чернигов, и немедленно двигаться дальше, постараться занять ещё несколько городов, прежде чем царь Борис сможет выставить против него большую рать. Стояла осень, и до распутицы необходимо было подойти хотя бы к ближайшему крупному пункту – Новограду Северскому и за его крепкими стенами укрыться на зиму Посоветовавшись с Юрием Мнишком и казацкими старшинами, царевич через три дня выступил по направлению к этой крепости.
Зимними, затуманенными вьюгой сумерками в чёрной избе постоялого двора, на дороге между Орлом и Курском, сидели за едой двое проезжих, видимо, следующих из одного места. Маленькая восковая свечка прилепленная прямо к непокрытому столу, освещала бородатые лица, грубые руки, теплый стрелецкий кафтан на одном и грубосуконную стеганую поддёвку купецкого склада на другом. Было тепло, тихо, посвистывал за окном ветер, шуршали тараканы, хлебали рты. В середине обеда религиозно-молчаливое чавканье было нарушено стуком в мёрзлое окошко.
– Кто там?
– Во имя Отца и Сына и Духа Святого! Аминь! Впусти, хозяин.
– Да кто ты?
– Монаси мы, странники божии.
Через несколько минут в горницу, пыхтя и сгибаясь, влез старик в подпоясанном верёвкой лёгком нагольном тулупчике и скуфье. Он долго отряхивался, сетовал на метель, благодарил Бога, что попал в избу, кряхтел, снимая кожух, молился на иконы, дышал на руки, прикладывал их к печке и, наконец, поклонился сидевшим, касаясь рукою земли.
– Мир вам, братие, и благословенье угодников Божиих: Зосимы, Савватия – чудотворцев соловецких!
– Мартын Сквалыга! – вскричал купец. – Ты ли? Вот Бог послал!
– Тако, сыне, аз есмь! И тож узнал тя! Не Ивана ли Пафнутьича зрю очесами, что летось в посудине вместе плыли с Вологды до Архангельска? Забыл уж, отколь ты будешь родом-то!
– Обояньские мы, отче. Здрав буди! Садися, потрапезуй с благословеньицем. Душевно рад тебе! Прозяб, видно, крепко и от чарки не откажешься. А се – свояк мой, Игнат Лексеич, голова стрелецкий. Ныне воевода наш послал его на Москву с грамотой к боярам, так я попутчиком увязался. Пей, отче!
– Спасибо те, друже! Чуть жив дошёл! За здравие твое! Благослови Господь!
– Кушай, старче! И посумерничаем, про виденное нам расскажешь.
После трапезы все трое залезли на широкую печь и, не зажигая огня, занялись впотьмах разговорами, воспоминанием старых встреч, пожеланием Царства Небесного покойникам и злословием по адресу живых.
– Из Соловков шагаю, – говорил Мартын. – О, пречудная обитель Божия, красоты неизречимой, середь моря утвердишася! Душою отдохнул тамо и потрудихся изрядно, до самого перва Спаса пребываючи. Оттоле шествуя, зайде аз к Антонию Сийскому, что на Двине-реке, недалече Архангельского града стоит. Тож монастырь предивный, на горе высокой, и бор кругом стоит. Кладезь там есть над источником самородным, иже исцеление недужным подает, а один раз в году, в нощи, на самый праздник Антониев, цветок сияющий из кладезя того выходит, чудеса великие творяще. И аще кто праведен есть, то чудо сие узрит и благоухание его учует. В сём лете одна слепая старица то видела. Аз же грешный на празднике там не был и чуда Господня не видел – на три дня опоздаше: задержался бо в Соловках по случаю непогоды на море. А видел тамо, в монастыре Антоньевом, боярина Романова Фёдора Никитича, что в Москве на Варварке двор имел, ныне же в монасех ходит, Филаретом зовут. И другие там бояре знатные, неволею пострижены, в кельях малых прозябают.
– Я тоже знавал его. Добрый был боярин. Худо ли проживает там?
– Допрежь Ильина дня жил в скудобе и нищете, а в день тот, сказывают, были у него люди и довели до него, что царевич Дмитрей углицкий на Литве объявился, и он, боярин-то, и оживися зело, взыграся духом и речи игумену: «Не повинуюсь! И вы, чернецы, узнаете скоро, каков аз есмь, и все обиды мои воздадутся вам!» И учал монахов хулити и столь в перечу вступать, что чернецы убояшеся его и сотвориша яко хощет во всём!
– Москвою тож проходил?
– Был, чадо. Лихо там. Насмотрелся такого, что лучше бы и не заходить. Помрачился разум у властей православных, и не ведают, что творят. Рече аз единожды на толкучке, что звезда хвостатая не к добру на небеси явишася, так меня имали за приставы и в приказ приведоша. Неделю в подвале на соломе гнилой валяхся, чудом спасся – по молитвам родительским отпустили окаянные и ничего не спросили. Не ведаю, како угодил туда, како освободился! Хватают на Москве зря кого попало, особливо же при помине Дмитрея-царевича, и мучают нещадно, даже до смерти.
– В наших посадах то ж самое творится, да токмо народ ныне иной стал: на прошлой неделе воевода поймал душ восемь али десять в Обоянь-граде за речи воровские да за письмо подметное, так вскорости у нас дьяку голову сорвали, двух стрельцов резали, боярину же знать дали, что коли не отпустит иманных, так же и ему будет. Да и петухом красным угрожают. Почуяли воры, куда от царевича ветер дует!
– Мыслю яз, – сказал стрелецкий голова, – что ежели так и дальше пойдёт, то сей зимой быть заварухе недоброй на донской степи. Воевода наш то же думает – с писаньем его о сей беде и еду в Москву.
– Смириться треба воеводе, – не всё же шкуру драть!
– Смирились, отче! После того случая вельми утишились – бояться воевода стал, даж татей в застенок не берём, палач в праздности у нас живёт. А слышно, за Белградом войско собирается, царевичу в подмогу, и на Курск пойдёт.
– Войско, говоришь? И что же то за войско? Откудова?
– Бог ведает, отче. Но ежели всех беглых подымут, так соберут силу немалую. Там токмо и говору, что о царевиче, и многие крест ему целовали.
– Люта будет рать донская, разбойная, – добавил купец, – бояр щупать учнёт.
– Спаси, Пречистая! Да может, всё сие брехня и суета сует? Много слыхивал яз сказок всяких житейских, им же веры давать не можно.
– Нет, отче, то – правда. Бают, уже две рати стоят там по сёлам – не идут по случаю морозов да снегов больших, одначе и не расходятся.
– Вот что! Дивны делы творятся! Недаром в Кремле московском на самый Серьгов день колокола ночью сами собой звонили – аз ушами своими то слышал, когда в приказе сидел, и весь народ был ужасом объят! Можа, от чуда сего меня и выпустили тогда.
– Надысь в Курске тож виденье было – за два дня до нашего проезду. В церкви ихней «Успенья на помоях» ночью свечи сами собой зажглися, и с улицы люди видели, как царские врата отворилися и птица сиятельна из алтаря вышла, сказала три слова, коих никто разгадать не мог.
– В Курске, говоришь? Птица? – воскликнул монах. – Велико знаменье! Спаси нас, Господи! В третий раз появляется на Руси! Птица та зовется – Сирин. Впервые объявилась в обители Звенигородской, у Саввы преподобного, три лета тому назад, перед гладом московским; второй раз – в Ярославле, у Николы Мокрого. Токмо словес там птица не изрекала. Тяжко время наше, и не знаешь, куда путь держать! А что, други, царевич тот в Литве сидит аль вышел?
– Зазяб ты, отче, мыслию по дальним путям твоим! Царевич Дмитрей сколь градов уже под себя взял – Моравск и Чернигов, Кромы и протчие. Ныне же стоит под Новоградом-Северским, да войти туда не может – стены крепки там, и рать царская в нём сидит. А правит ею Басманов – боярин московский.
– А голытьба донская ему на подмогу собирается.
– Басманову, что ли?
– Нет, отче! О подмоге царю тут и не помышляют – то сам увидишь. Да ты куда путь-то держишь?
– Хотел я отсель на Белград пробираться – в монастыре там Пасхи святой дождаться, звал меня Кирилл, настоятель, да ныне охота пришла на Дмитрея сего взглянуть.
– Отец настоятель Кирилл осенью сей на Покров день помре, и теперь сидит там Онисим.
– А коли тако – Царство ему Небесное! Хоть и жаль игумена, а гоже, что сие зде услышал, – не хожу на Белград, иду прямой дорогой к царевичу.
– А почто он тебе?
– Мне он не нужен, друже, то правда, да народ вокруг его шумит. А где народ, там и аз грешный! Люблю с людьми жити, от сего и по обителям долго не сижу, на миру шатаюсь, не имам силы затворитися.
– Народ, отче, таково шумит, что, смотри, как бы от сего шума-то голова с плеч не слетела!
– Э, милый! Ты ещё жених-молодец, а мы видали виды! Взять с меня неча, и страшиться мне неча, а ежли у царевича довольствие почую, то и совсем там останусь.
– Вот и многие так же судят, да и яз, купец, стремленье держу – после Москвы с товарцем к нему отъехать: можа, поторговать разрешит.
В это время послышался стук в ворота, крики со двора, и через некоторое время в избу вошли с небольшим фонарём двое боярских челядинцев с заиндевевшими бородами, а за ними протискался в узкую дверь толстый боярин в лисьей шубе и шапке, который, едва перекрестившись, сейчас же плюхнулся на лавку. Хлопцы кинулись разувать и раздевать его.
– Подождите, подлецы. Не могу встать – ноги затекли, озяб прелюто, дай дух переведу! Счастье пречудное, что не в поле ночуем! Отчаялся уж выбраться изо снега! Кабы не собачий лай – сидели бы в сугробах! Испить дай горячего! Романеи принеси. Ясти не хочу и на печь тотчас полезу Без меня трапезуйте!
Отогревшись, он позволил снять с себя огромные валенки, надетые сверх сапог, поднялся, скинул шубу, шапку, перекрестился.
– На печи люди, боярин, – доложил слуга.
– А ты не ведаешь, что творить? Жаль, нет плётки со мною, яз те научил бы!
– Эй, вы! – заорали «молодцы» лежащим на печке. – Слезайте! Убирайтесь! Скоро!
Один из них поднялся на ступеньку и вытянул кнутом старика Сквалыгу.
– Ой, батюшка! За что же ты? – заохал монах, поднимаясь, но купец так толкнул холопа ногою, что тот с грохотом полетел вниз.
Тут вошел со двора хозяин корчмы и, наклонясь к знатному постояльцу, сказал тихо:
– Княже боярин, не трожь их! Неведомо, что за люди, одначе не из чёрных. Даве царевича в речах поминали, а тут у нас кругом шалят ребята, и атаман недалече ходит. Как бы, Боже спаси, не заглянул в непогодь!
– Пужать меня вздумал, смерд! Михалка! Поучи-ка его ременной! Зажрались туто! Всяку честь забыли! Чтоб сей же миг на печи никого не было! Слышал?
Но случилось то, чего опасался хозяин: дверь распахнулась, и в клубах морозного пара на пороге показались одна за другой фигуры в полушубках и бараньих шапках, с кистенями, саблями, дубинами.
Они быстро входили, крякали, отряхивали снег, истово крестились в передний угол.
– Ух, слава те, Господи! Нашли корчму! Сергеич! Здрав буди! Спасибо, что ворота не запер, – без стука въехали. Давай ужинать, да нет ли сивухи – захолодали люди!
– Сейчас, батюшка, отец родной! Как не быть!
– А что у тебя за народ?
– Неведомо, родной, – постояльцы проезжие. На печи люди тихие.
– Тихих-то человеков ныне плетьми стегали, с печи гнали, Бог им прости! – жалобно заговорил, высовываясь с печки, старик Мартын.
– Кто ж тебя гнал, старина?
– По его указу, – он кивнул на знатного, – хлопцы евонные пороли. Должно, князь с Москвы изволит жаловать.
– Ты кто таков? – спросил вновь вошедший боярина.
– А тебе, холоп, какое дело? И как смеешь вопрошать? Да знаешь ли ты, пёс, что…
– Сам ты пёс, а яз атаман тутошний.
– Разбойники!.. Спаси, Пречистая!.. Господи!..
– Не пускай соплей! Не трону. Мы нынче к царевичу Дмитрею идти собравшись, рать ему готовим.
– К царевичу? В сих местах? Под Курском? Тако ли слышу?.. Да ведь он под Новоградом Северским стоит!..
Атаман промолчал и, снимая валенки, лишь взглянул недружелюбно.
– Не погневись, добрый человек, но скажу тебе по совести – на Москве всем ведомо, что не царевич он, а чернец Гришка Отрепьев, и приказано словить его и к царю доставить. По церквам же грамота о том читана. Не в перечу говорю тебе, а по доброму совету – вразумленья ради.
– Уж не ты ли ловить его едешь?
– Нет, атамане, мы едем по своим делам. А патриарх святейший анафемой его проклял и указал…
– Утрева погуторим, княже, – перебил атаман, – а теперь ужинать дадено. Садись, товарищи! На печи ещё одно место мне найдется, другие по лавкам лягут, а ты, боярин, и на земли не сплохуешь – шуба у тебя знатная.
Поужинавши, повстанцы расположились, как указал атаман, оставив одного сидеть на лавке с ружьём для караула. Боярин подумал, повздыхал, но пререкаться из-за места не стал и, закутавшись в шубу, растянулся на полу поближе к печке.
Утром все поднялись до свету. Атаман прочёл вслух молитву, которую все выслушали стоя и крестясь, затем, пожевав хлебушка, стали натягивать полушубки.
– Так едешь, боярин, царевича ловить? – спросил старшой.
– Не лепно мне с тобою речь вести, но едино скажу тебе, что скоро сему царевичу конец придёт.
– Тако, тако… Да несподручно тебе в таких одеяньях тяжёлых за царевичем гоняться! Мы тебя полегчаем малость: ты шубу-то с обутками оставь нам и хлопцам прикажи, чтоб кожухи свои отдали, а также и коней всех, – пешему тебе удобнее кого хошь ловить – во всяку щель пролезешь! Да и мошну с рублями на стол клади!
– Да что ты, друже! Помилуй! Ведь яз тебя не трогал, не похабил! За что ж безвинно?
– Не погневайся, княже, недосужно с тобой чесаться! Эй, соколы! Имайте коней боярских! Единого коня дарю сему монаху – старцу, что ночевал со мною: он тож к царевичу стремится, да по бедности пешком далече, мол.
– Атамане! Друже! Смилуйся. Пять коней! Како без них буду? Хоть двух оставь! Бога ради молю тя! Не губи душу! – И боярин упал на колени.
– Давай казну! – рявкнул атаман. – Да молись за меня, что жив остался! Уж скольки раз меня за мякоть товарищи ругали, и ныне чую – не миновать того, да уж таков я уродился: не терплю крови зряшней. Уйди с проходу, чего растянулся! – И забравши мошну, полную серебра, толкнув обезумевшего князя ногою, он удалился.
На рассвете в корчме сидел лишь боярин и его два холопа, с которых повстанцы, по выходе атамана, успели снять не только шубу, но и всю одежду, оставив одни исподние рубахи. В полной растерянности князь плакал, как ребёнок, а слуги потребовали у корчмаря водки и заливали горе сивухою.
В одной из комнат большого кремлёвского дворца у стола, покрытого тёмной аксамитовой скатертью, сидели зимним вечером две грустные женщины; мать, в покойном заграничном кресле, и дочь – посреди подушек, на лавке, у стены. Первая не спеша пришивала бахрому к церковному покрывалу и, часто отрываясь, подносила к глазам платочек, поправляла свечку на столе, тяжело вздыхала, мельком взглядывала на дочку, негромко читавшую святую книгу. Приятный, низкий голосок девушки и неторопливость её чтения, немножко нараспев, с печальной ноткой, гармонировали с мягкостью и темными тонами окружающей обстановки. Желтоватый свет пятисвечника, поставленного в простенке, тонул в тёмно-красной глубине бухарских ковров, облегающих пол и стены, скрадывающих звуки, успокаивающих взор. По стенам изящно поблескивали, не нарушая спокойного вида комнаты, драгоценные украшения: золотая посуда и безделушки на резных полочках, иноземные шкатулы и русские ларцы приземистого стиля на подставах, кавказская сабля в серебряных ножнах, два птичьих чучела, заморские часы у задней стены и другие вещи – подарки дорогих друзей, памятки хороших дней. Большой киот в углу, с разноцветными лампадами, неярко мерцал в полутьме алмазами своих икон и золочёными кистями чёрных бархатных занавесок; три удобных польских кресла с пуховичками, окружая стол, звали к отдохновению, к пользованию ковровыми ножными скамеечками, стоящими возле них; красавица печка, с уступами и выемками в голубых узорах, манила теплотой и чудесной лежаночкой, накрытой пушистым мехом с шёлковыми подушками; множество таких же подушек, валиков, думок лежало в беспорядке по широким бархатным лавкам и табуретам во всей комнате, заполняя свободные уголки, сокращая пространство.



