
Полная версия:
Достоевский Ф.М.: 100 и 1 цитата
Этот отзыв приводит Достоевского в состояние болезни. «Вот что гадко и мучительно, — писал он брату Михаилу 1 апреля 1846 г. из Петербурга, — свои, наши, Белинский и все мною недовольны за Голядкина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки. Второе — критика <…> Что же касается до меня, то я даже на некоторое мгновение впал в уныние. У меня есть ужасный порок — неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Многое в нем писано наскоро и в утомлении. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется. Вот это-то и создало мне на время ад, и я заболел от горя» [28 (1), 119–120].
«… Я завел процесс со всею нашей литературою…»
«Мне все кажется, что я завел процесс со всею нашей литературою, журналами и критиками и тремя частями романа моего в “Отечеств<енных> записках” и устанавливаю и на этот год мое первенство назло недоброжелателям моим»
[письмо Ф. М. Достоевского к брату М. М. Достоевскому от 17 декабря 1846 г. из Петербурга (28 (1), 135)].
Историю разрыва Ф. М. Достоевского с кружком Белинского раскрывали в своих воспоминаниях А. Я. Панаева и Д. В. Григорович. Панаева вспоминала: «С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своей раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался. <…>
Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду <…> Вместо того, чтобы снисходительно смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками»********.
Д. В. Григорович давал свою версию травли Достоевского: «Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора “Бедных людей” чуть ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себе еще больше прежнего и сделался раздражительным до последней степени. При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их в грязь затопчет. <…>
После сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв между кружком Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал. На него посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю…»********.
«Скажу тебе, — пишет Достоевский брату Михаилу 26 ноября 1846 г., — что я имел неприятность окончательно поссориться с “Современником” в лице Некрасова. <…> Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому затем, что Майков хвалит меня. Некрасов же меня собирается ругать. Что же касается до Белинского, то это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе. Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный. Между тем Краевский, обрадовавшись случаю, дал мне денег и обещал, сверх того, уплатить за меня все долги к 15 декабря. За это я работаю ему до весны. Видишь ли что, брат: из всего этого я извлек премудрое правило. 1-е убыточное дело для начинающего таланта — это дружба с проприетерами изданий, из которой необходимым следствием исходит кумовство и потом разные сальности. Потом независимость положения и, наконец, работа для Святого Искусства, работа святая, чистая, в простоте сердца, которое еще никогда так не дрожало и не двигалось у меня, как теперь перед всеми новыми образами, которые создаются в душе моей» [28 (1), 133–134].
Коллективному творчеству Тургенева, Панаева и Некрасова в конце 1846 г. принадлежит «Послание Белинского к Достоевскому»:
Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ…
По свидетельству А. Я. Панаевой, у Некрасова с Достоевским произошло бурное объяснение по поводу этого «Послания»: «… когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу. Войдя к Некрасову, я нашла его в таком же разгоряченном состоянии. “Достоевский просто сошел с ума! — сказал Некрасов мне дрожащим от волнения голосом. — Явился ко мне с угрозами, чтобы я не смел печатать мой разбор его сочинения в следующем номере. И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах! До бешенства дошел”»********.
Пасквиль, поначалу ходивший в списках, был опубликован И. И. Панаевым в журнале «Современник» в 1855 г., когда Достоевский отбывал солдатчину в Семипалатинске. Панаев не пожалел недавнего каторжника, набросав словесную карикатуру на образ Достоевского из давнего прошлого: «С этих пор наш маленький гений сделался невыносим: он ни за что не хотел ходить сам по земле или по тротуару, а непременно требовал, чтобы мы его носили на руках и поднимали как можно выше, чтобы все его видели; он беспрестанно злился на нас и кричал: “Выше! Выше!”»******** Литературные враги Достоевского осмеивали и невзрачную внешность писателя, и его наивное честолюбие, и даже обморок, случившийся с ним в салоне графа М. Ю. Виельгорского, когда к нему подвели желавшую познакомиться с модным литератором красавицу Сенявину:
Хоть ты юный литератор,
Но в восторг уж всех поверг:
Тебя знает император,
Уважает Лейхтенберг,
За тобой султан турецкий
Скоро вышлет визирей <…>
Но когда на раут светский,
Перед сонмище князей,
Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносым носом
Перед русой красотой,
Как трагически недвижно
Ты смотрел на сей предмет
И чуть-чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.
«Этот человек [Белинский] ругал мне Христа по-матерну…»
«Этот человек ругал мне Христа по-матерну, а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а главное, самолюбия. Ругая Христа, он не сказал себе никогда: что же мы поставим вместо Него, неужели себя, тогда как мы так гадки. Нет, он никогда не задумался над тем, что он сам гадок. Он был доволен собой в высшей степени, и это была уже личная, смрадная, позорная тупость. Вы говорите, он был талантлив. Совсем нет, и Боже — как наврал о нем в своей поэтической статье Григорьев********. Я помню мое юношеское удивление, когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям (н<а>прим<ер>, о “Мертв<ых> душах”). Он до безобразия поверхностно и с пренебрежением относился к типам Гоголя и только рад был до восторга, что Гоголь обличил. Здесь, в эти 4 года, я перечитал его критики: он обругал Пушкина, когда тот бросил свою фальшивую ноту и явился с “Повестями Белкина” и с “Арапом”. Он с удивлением провозгласил ничтожество “Повестей Белкина”. Он в повести Гоголя “Коляска” не находил художественного цельного создания и повести, а только шуточный рассказ. Он отрекся от окончания “Евгения Онегина”. Он первый выпустил мысль о камер-юнкерстве Пушкина. Он сказал, что Тургенев не будет художником, а между тем это сказано по прочтении чрезвычайно значительного рассказа Тургенева “Три портрета”. Я бы мог Вам набрать таких примеров сколько угодно для доказательства неправды его критического чутья и “восприимчивого трепета”, о котором врал Григорьев (потому что сам был поэт). О Белинском и о многих явлениях нашей жизни судим мы до сих пор еще сквозь множество чрезвычайных предрассудков»
[письмо Ф. М. Достоевского к Н. Н. Страхову 18 (30) мая 1871 г. из Дрездена (29 (I), 215–216)].
«В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял тогда все его учение»
[ «Дневник писателя» 1873 г., глава «Старые люди» (21, 12)].
Ф. М. Достоевский рассказывает в «Дневнике писателя» за 1873 г., как Белинский «бросился обращать» его в свою веру: «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. <…> В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. <…> Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге “Vie de Jésus” [ «Жизнь Иисуса»], что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.
— Да знаете ли вы, — взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел…
В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.
— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет… Да поверьте же, наивный вы человек, — набросился он опять на меня, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.
— Ну не-е-т! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате). — Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его…
— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними»
[ «Дневник писателя» 1873 г., глава «Старые люди» (21, 10–11)].
Глава 5
Кружок Петрашевского, Алексеевский равелин Петропавловской крепости и Омский острог
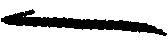
«…У меня с этого времени есть свой Мефистофель».
Ф. М. Достоевский стал посещать «пятницы» М. В. Петрашевского. Петрашевский рассчитывал использовать писательский талант Достоевского для пропаганды фурьеристских идей. П. П. Семенов-Тян-Шанский утверждал, что в силу своей страстности и горячности «Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем»********. Из кружка Петрашевского выделилось несколько человек, настроенных радикальнее других. Они сгруппировались вокруг Н. А. Спешнева, в этот кружок вошел также и Достоевский. Доктор С. Д. Яновский вспоминал, как Достоевского мучило, что он занял у Спешнева около пятисот рублей серебром и теперь вынужден покориться его воле: «Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад, такой уж он человек». Достоевский обреченно повторял: «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель»********. В январе 1849 г. Достоевский предлагает поэту Ап. Майкову примкнуть к их тайному кружку, члены которого задумали государственный переворот и даже приобрели типографский станок, чтобы печатать неподцензурную пропагандистскую литературу. Чиновник по особым поручениям при Министерстве внутренних дел И. П. Липранди, бывший приятель А. С. Пушкина, внедряет в кружок Петрашевского тайного агента П. Антонелли, который с января 1849 г. составляет агентурные донесения о членах кружка и антиправительственных разговорах по «пятницам». В ночь с 22 на 23 апреля (по старому стилю) 1849 г. были произведены аресты 34 петрашевцев, в том числе Ф. М. и А. М. Достоевских (последнего вскоре выпустили, так как спутали с другим братом — Михаилом). Начались многодневные допросы, которыми руководил глава III Отделения генерал-лейтенант Л. В. Дубельт. Достоевский держался мужественно и никого не выдал.
«Мне снились тихие, хорошие, добрые сны».
«…Думал, что трех дней не выдержу, и — вдруг совсем успокоился, ведь я там [в крепости] что делал?.. Я писал “Маленького героя” — прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны»********.
6 мая (24 апреля) 1849 г. Ф. М. Достоевский заключен в камеру № 9 «Секретного дома» Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Поводом для обвинительного приговора послужило чтение Достоевским запрещенного цензурой письма В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю на «пятнице» в кружке М. В. Петрашевского. Приговор Военно-судной комиссии по делу петрашевцев поступает на окончательное решение в генерал-аудиториат. По этому приговору Ф. М. Достоевский признавался виновным в том, что получил от подсудимого Плещеева «копию с преступного письма литератора Белинского, — читал это письмо в собраниях» (у Дурова, Петрашевского), «передал его для списания копий подсудимому Момбелли», а также «был у подсудимого Спешнева во время чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием “Солдатская беседа”, за что подсудимый Достоевский лишается всех чинов, прав состояния и подвергается “смертной казни расстрелянием”».
Находясь в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, Достоевский, ожидая приговора, работает над «Детской сказкой» («Маленьким героем»).
Гражданская казнь Ф. М. Достоевского (несостоявшаяся смерть)
«Мы будем вместе с Христом…»
22 декабря (по ст. стилю) 1849 г. Ф. М. Достоевский на Семеновском плацу Петербурга ожидает расстрела вместе с другими петрашевцами. Их облачают в смертную одежду: белый балахон и белый колпак на глаза, «чтобы не видно было ружей», над головами переламывают шпаги. Петрашевского, Момбелли и Григорьева привязывают к столбам и завязывают им глаза. У каждого столба выстраивается команда из 16 солдат. Достоевский «стоял шестым и был во второй очереди», он обнялся с Плещеевым и Дуровым. Петрашевец Ф. Львов вспоминал, как Достоевский, подойдя к Н. А. Спешневу, сказал ему: “Nous serons avec le Christ” [ «Мы будем вместе с Христом» — фр.], а Спешнев ответил с усмешкой: “Un peu poussiere” [ «Горстью праха»]. В романе «Идиот» Достоевский в рассказе князя Мышкина описал, как за минуту до казни вглядывался в лучи, сверкавшие на позолоченной крыше собора, «ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с нею» (8, 52). Барабаны ударили отбой, привязанных к столбу привели назад и прочитали рескрипт о помиловании, который по высочайшему повелению императора должны были объявить в последнее мгновение, «когда уже все будет готово к исполнению казни». Петрашевец Григорьев, не выдержав жестокой инсценировки, вскоре после гражданской казни сошел с ума.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

