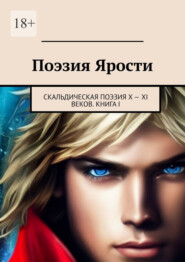скачать книгу бесплатно
Чтобы стать годи или хевдингом исландцу было недостаточно происходить из знатного рода, необходимо было иметь соответствующие личные качества, и просто удачу, чтобы не погибнуть раньше времени. Так Иллуги сына Асмунда зарубили в отрочестве.
Хевдинг – предводитель большого отряда вооруженных людей, чаще всего зависимых бондов, сопровождающих своего годи или крупного землевладельца.
Годи – это владетель годорда, капища и округи, объединенной жертвоприношениями на этом капище. Годи был обязан содержать капище в надлежащем порядке, заботиться о жертвоприношениях, задавать пиры, которые были обязательной частью ритуала. Обычно годи был патроном округи, а жители годорда – его клиентами. Они обязаны были выплачивать определенный налог на содержание капища, а годи жертвовал свой скот для богов и общинных пиров. Годи был уважаемым человеком, знатным бондом и хевдингом. Годорд можно было купить у обнищавшего бонда, который уже не мог справляться со своими обязанностями. Передавалось звание годи по наследству наиболее толковому из сыновей.
Звание бонда предполагало наличие хозяйства, жены, детей. Сыновья бондов, не имевшие собственного надела земли, бондами не считались. На тяжбе по поводу убийства из-за раздела туши кита, законоговоритель объявил, что «бонды имеют преимущество перед теми, кто не живет своим домом».
Слово «бонд» оказывалось многозначным. Так могли назвать и знатного человека, который мог породниться и с конунгом, и с ярлом, а могли назвать и мелкого земельного собственника, едва сводящего концы с концами. Общим и у тех, и у других было владение земельной собственностью и независимого хозяйства.
Несмотря на высокий социальный статус, знатные исландцы отнюдь не бездельничали, а часто сами выполняли сельскохозяйственные работы: косили траву, скирдовали солому, строили лодки, занимались кузнечным ремеслом. Хватало им времени и на развлечения, упоминается игра в мяч, конские бои, и на государственные дела – они ездили на тинги, где принимали законы, в том числе и такие важные, как принятие христианства. Скальды были выходцами из среды знатных исландцев.
ПРАВО СИЛЫ
Ты должен быть сильным
Ты должен уметь сказать:
«Руки прочь, прочь от меня»
Ты должен быть сильным
Иначе, зачем тебе жить.
Мама, мы все сошли с ума
Кино
Казалось бы, Исландия должна стать островком земного рая: у каждого человека есть свой участок земли, работай, корми детей и радуйся жизни, но нет. Кровавые разборки по поводу и без повода тянутся через всю историю Исландии. Нам трудно понять, как можно убить человека из-за клочка соломы, из-за половины туши кита, из-за езды на лошади. Любой конфликт мог обернуться резней. Работник ушел к другому хозяину. Убить хозяина. И раскручивается маховик кровной мести, ибо для исландца нестерпимо оставить смерть близкого человека неотмщенной.
Убийства, распри, битвы и смерть, как кульминация жизни – вот что вызывало живейший интерес. Исландская родовая сага – это описание убийств, их причин и следствий. А еще поведения героев саги в крайний момент жизни. Героев и в смысле действующих лиц, и в смысле лица, способного на экстраординарный поступок, причем моральная оценка не выносилась. С нашей точки зрения это может быть одиозная аморальная личность, но исландца интересует не абстрактная борьба «бобра с козлом», добра со злом, а поступки, потрясающие общество до самых его глубин, череда убийств – и встреча со смертью.
Исландцы не торопились умирать. Им был чужд дух безбашенной рыцарской отваги. Месть тщательно готовилась. Мститель часто подстерегал жертву в засаде, обеспечивал себе численное преимущество. Снорри Годи убил Арнкетиля Годи на рассвете, во главе отряда из 14 человек он вышел против одного. Итог такой встречи был предрешен. Но ни звание годи, ни личная дружина не могли уберечь от смерти. Стюр Убийца, могущественный хевдинг, получивший такое милое прозвище за убийство без виры чуть ли не сорока человек, погиб от удара секирой по голове, которым ему воздал сын его ранее убитого клиента.
Убийство было частью жизни. Общество признавало право убить чуть ли не по любому поводу, а возможно и без повода, но существовала и общественная регламентация «правильного» убийства. Так убитого полагалось захоронить, глумление над телом рассматривалось как повод для отдельного иска и отдельной виры. Об убийстве необходимо было объявить на ближайшем хуторе, тогда можно было откупиться вирой, но бывало, что родственники убитого отказывались принимать выкуп и добивались объявления убийцы вне закона. В этом случае его имущество полностью переходило родственникам убитого, а самого его можно было убить безнаказанно. Иногда родственники убитого назначали от себя вознаграждение для вершителя правосудия.
Тяжбы по поводу убийств разбирались на тингах, и часто решение было обусловлено мощью группы поддержки. «Многие поговаривали, что он взял больше силой, чем законом, но все так и оставили», – как говорилось в саге об одном таком тинге.
Убийство было не только правом, но и обязанностью. Родичи убитого, пусть бы он был полным асоциалом, терроризировавшим всех и вся, должны были мстить. Месть распространялась на всех мужчин рода убийцы, но мщение любому и каждому не приветствовалось. Если невозможно было отомстить самому убийце, например, в случае его смерти от случайных причин, убийство переносилось на ближайшего родича.
Подстрекательницами к мести часто выступали женщины – матери и жены. Турид, мать семейства, положила своему сыну Барди на обед камни, со словами, что он вполне сможет переварить эту пищу, как переварил известие об убийстве своего брата Халля. Надо сказать, что непосредственные виновники убийства Халля утонули, так что мстить предлагалась лицам, не причастным к распре. Подстрекательство Турид вылилось в Битву на Пустоши, воспетую в висах, представленных ниже.
Исландец совершал убийство чаще всего не в порыве чувств, не под влиянием аффекта, нет. Он совершал убийство вполне осознанно, понимая все последствия для себя и своего рода. Аффективное убийство осуждалось. «Только раб мстит сразу», – говорил герой исландской саги Греттир сын Асмунда, – и продолжение этой пословицы «А трус – никогда». Исландец прекрасно понимал, что свершение мести значит для него лишение жизненных благ, изгнание, часто смерть, и, понимая это – шел мстить. «Не мог я допустить, чтобы такой человек, как Венстейн остался неотмщенным», – говорил другой герой саги Гисли, которого после свершенной мести объявили вне закона.
Характерно, что при крайней агрессивности исландского общества, женщины были защищены от насилия принадлежностью к своему полу. Женщин выпускали из дома, который собирались сжигать со всеми обитателями. Жену Гисли, которая вышла защищать своего мужа, хватают и связывают, причем с риском для себя, ибо она отбивалась и поранила нападающих на нее. Тордис, сестра Гисли, узнав об убийстве брата, нападает с мечом и серьезно ранит его убийцу, ее скручивают, а муж выплачивает виру за рану, нанесенную в его доме.
Можно привести примеры, когда женщин все-таки убивали, чаще всего по обвинению в колдовстве, в других случаях это характеристика персонажа, как отъявленного мерзавца. И намек на недолгую жизнь этого персонажа. Характерно, что за супружескую неверность ответственность несла не жена, а любовник, именно на него муж обрушивал свои кары, именно его полагалось убить. Семейное насилие не допускалось. Когда муж ударил свою жену по лицу, она тотчас развелась с ним.
Несмотря на то, что в реальной жизни скандинавская женщина пользовалась уважением в семье, в общественном сознании сидел страх перед женским началом. Мерзкие колдуньи по большей части женщины. Убивали их, по сообщениям саг, нещадно. Хэль – сама Смерть в представлении скандинавов была безобразной женщиной. Да и валькирии, лебединые девы, уводившие воинов в Вальгаллу-Палату Павших – генетически происходят от отвратительных троллих, питающихся мертвечиной. Архаичный образ женщины, враждебной мужскому миру, постепенно замещался другим образом – верной сестры и жены, хотя в человеческом сознании более древний пласт никогда не исчезает без следа, он продолжает существовать, в том числе давая выплески иррациональной жестокости против женщины, как это представлено в некоторых скальдических висах.
Право сильного не подвергалось сомнению. Кто силен – тот и прав, для исландца это естественно. Если у тебя нет сил, чтобы защитить себя, свое имущество, своих близких – жизнь не имеет смысла. Из саги в сагу кочует стереотипный эпизод, как берсерк, обнаглевший от безнаказанности и поднатаревший в боевых искусствах, приходит к очередному бонду, уступающему ему в силе, старику либо мальчишке, и предлагает сразиться. Кто победит – тот получает вместе с жизнью хутор и жену (дочь, сестру). В сагах часто на выручку хозяину хутора приходит герой, а в жизни Торольв, впоследствии названный Скрюченная Нога, вызвал на поединок Ульвара для того чтобы завладеть его землями. Ульвар пал в битве, а Торольв стал хозяином на его хуторе. Снорри Годи, с нашей точки зрения бесчестно убивший Арнкетиля, напав на него одного во главе отряда из 14 бойцов, вовсе не осуждался исландцами, и его авторитет скорее вырос, чем упал. «Тяжба об убийстве Арнкетиля была вынесена на тинг и решена миром, – сообщает сага. – Единственным осужденным был Торлейв Кимби, которому приписали смертельную рану, полученную Арнкетилем, он должен был провести три года в изгнании». «Вести тяжбу выпало женщинам», – бесстрастно информирует сага. Без поддержки мужчин женщины ничего не могли добиться, ибо в конечном итоге выходить на битву надлежало мужчинам. «Поскольку возмездие было вовсе не таким, как подобало по смерти столь видного хевдинга, как Арнкетиль, правители страны внесли в закон поправку, чтобы впредь женщины… не могли выступать истцом в тяжбе об убийстве». Это не было дискриминацией. Это была попытка соблюсти справедливость в мире, где на место справедливости была поставлена сила.
Жизнь не являлась приоритетом в ценностной шкале исландца. Она без колебания приносилось в жертву норову, возможности настоять на своем, ни под кого не прогнуться, а при малейшей возможности пригнуть ближнего своего. Требование, даже законное, выполнить приказ, встречало у исландца сильнейшее внутреннее противодействие, часто приводящее к кровавым конфликтам. Иногда это упрямство кажется граничащим с безумием. Бьярни без спросу взял коня у Торгейра побратима Тормода, предводителя отряда удальцов, о котором пойдет речь ниже. Торгейр предъявил справедливые претензии и в ультимативной форме потребовал от Бьярни сейчас же слезть с его коня. Но Бьярни уперся: ведь ему осталось доехать до дома несколько шагов. После непродолжительного разговора, из которого Торгейр понимает, что Бьярни не выполнит его требования, он пронзает Бьярни копьем. «Мне решать, уедешь ли ты дальше» – говорит Торгейр. Вот за это «Мне решать», за право поступать по-своему, исландец был готов жертвовать жизнью. «Ты не станешь держаться за жизнь, ради того, чтобы добиться своего» – говорит Олав Конунг Тормоду Скальду Чернобровой, и эта фраза в полной мере выражает кредо исландца.
Отношение к жизни, как скорее к средству достижения целей, чем к высшей ценности, сформировало такую черту исландцев, как риск, в том числе головой, ради получения удовольствия, какое давала битва. Далеко не все исландцы были адреналовыми торчками, но определенно большинство из них страдало от невыносимой монотонии сельского быта. Недаром первый вопрос, который задавал исландец гостям, был: «Что нового?» Недаром, именно в Исландии получила развитие устная литература, сложение саг и скальдическая поэзия. Задыхающимся на своих хуторах от информационного голода исландцам, устное творчество давало хоть какую-то пищу для ума.
Сенсорный голод – состояние не менее мучительное, чем пищевой голод или жажда. Многих он гнал испытать острые ощущения, связанные с риском для жизни. Не случайно, часто рисковыми людьми были скальды, люди с развитым мозгом, большой оперативной памятью, натренированной на запоминание огромного корпуса устной поэзии, а значит, особо чувствительные к сенсорному голоду, ибо развитый мозг требует информации, как развитый желудок требует пищи.
Греттир сын Асмунда, не зная, чем себя занять, пытается навязаться в войско Барди сходить помахаться с его кровниками. Посчитав себя обиженным за отказ, Греттир чуть было не схлестнулся с самим Барди, встретив его после битвы. Он же лезет в курган, где бьется со Старым Каром, мертвяком, охраняющим сокровища, затем отправляется в Тенистую Долину схватиться с другим мертвяком, Гламом, терроризирующих жителей хутора.
Тормод Скальд Чернобровой, скрывается в пещере после мести за своего побратима Торгейра. Ему грозит смерть, если его обнаружат. Сага как всегда бесстрастно сообщает: «Тормоду было скучно в пещере, потому что там было мало развлечений». Какое же развлечение придумывает себе Тормод, одуревший от сенсорной депривации? «Однажды в хорошую погоду Тормод решается выйти. Он берет с собой секиру…» По итогам этой прогулки Тормод убил трех человек, а сам чуть не погиб, получив секирой между лопаток, свалившись в борьбе со скалы в море, и там, в подводной схватке, утопив своего противника.
Примеры можно продолжать. Исландец отнюдь не против испытать себя на пределе возможностей, и жизнь не слишком высокая цена для этого. Всегда находятся охотники ввязаться в игру со смертью. Сигурд и Эгиль не просто предупреждают Арона об опасности (Арона разыскивают его кровники), не будучи в родстве с Ароном, они остаются с ним и вступают в схватку с врагами Арона. «Эгиль сказал, что ничто не заставляет их вступать в чужие разборки. Однако, – добавляет он, – редко бывало так, чтобы я бежал, когда ты решил остаться…». Сигурд и Эгиль получили ранения в бою, помогая Арону, но выжили. И это далеко не единичный случай, когда случайные попутчики или просто посторонние люди приходят на помощь в крайних ситуациях, часто рискуя жизнью. В повторяющемся сюжете с берсерками, на битву вместо хозяина выходит гость. Расплатиться жизнью за стол и кров – это образец поведения норманна, который закреплен в общественном сознании, как добродетель.
Сигрфльод-хозяйка, приютившая беспредельщиков-побратимов Торгейра и Тормода настропаляет их убить других беспредельщиков Ингольва и Торбранда, которые, пользуясь покровительством годи, терроризируют жителей годорда. «По мне, так гораздо достойнее убить злодеев, которые грабят здешних людей, чем возиться с китами», – говорит она, и побратимов не приходится долго уговаривать. Они идут на хутор Ингольва и предлагают на выбор: сражаться или уйти с хутора. Торбранд отвечает: «Мы нажили имущество мужеством и отвагой и за иную цену с ним не расстанемся». Оба будут убиты, в отряде побратимов также падут двое, работники хуторян-беспредельщиков получат раны, но выживут.
«Смертные муки считаю игрою», – говорил, смеясь, Хегни, эпический герой Бургундского цикла, когда к нему приступились палачи резать из живого сердце. Это же мировоззрение сохраняли исторические люди, насколько можно судить о них по текстам саг.
Скальдические стихи опоэтизировали отношение к жизни, не как к высшей ценности, а как к средству удовлетворения личных амбиций. Испытывая невероятные по остроте ощущения от близости смерти и ее преодоления, они эстетизировали битву, находя прекрасным то, от чего современный человек пришел бы в ужас.
ЭСТЕТИКА БИТВЫ
Мы дети Богов, наша участь известна
На север
Мельница
Скандинав жил в мире силы, и не сомневался в правде силы. Это постоянное утверждение себя в жестоком мире, где жизнь становилась разменной монетой в игре страстей, требовало мощнейшей мотиватиции для того, чтобы вновь и вновь бросать ее в рулетку судьбы. Такой мотивацией становилась Слава.
Скандинав остро ощущал конечность своего бытия. Жизненный опыт убеждал, что если не ты, то тебя, и ни сила, ни отвага, ни толпа прихлебаев не спасут, когда придет Твой час. И он не заставит себя ждать. По большей части мужчины не доживали до 50. Торгейр, о котором шла речь выше, погиб в 28, его названный брат Тормод – в 34—35, Греттир сын Асмунда, проведя в бегах 23 года, погиб в 43—44, его брата Иллуги зарубили в 18.
Понимая, что физическое существование кратко, а продолжительность жизни по большей части от тебя не зависит, скандинав страстно желал запечатлеть себя в памяти людей. Только слава остается на земле после смерти, и чем более ярким будет твой уход из жизни, тем больше будут говорить о том люди, тем дольше сохранится Слава.
Как сказано в эддической поэме «Речи Высокого» (пер. А. Корсуна)
Гибнут стада, родня умирает
И смертен ты сам.
Но смерти не ведает громкая слава
Деяний достойных.
Как уже отмечалось выше, скандинав вовсе не торопился на свидание со смертью, но когда избежать ее было невозможно, он давал последний бой, часто против превосходящих сил противника, проявляя чудеса мужества, чтобы для всех эта битва была незабываема. В Битве на Пустоши Тородд отрубает Торбьену ногу, но тот не перестает сражаться, и убивает Тородда. После этого он бросается на Барди, предводителя отряда. Барди говорит: «Ты… кажешься троллем, раз можешь сражаться без ноги». Торбьен отвечает: «Нет ведовства в том, что муж терпит свою рану…. Это и называется мужеством…». В той битве Торбьен погиб. Гисли сын Кислого сражался один против 15 человек, в битве он убил восьмерых, и продолжал сражаться после того, как копьем ему раскроили живот, так что вывались внутренности. Торгейр, о котором шла речь выше, погиб, сражаясь один против 40 человек. Торир Норвежец пронзил его копьем, он пошел на удар и убил Торира.
Нельзя сказать, по крайней мере, из текста саг нигде не вытекает, что агрессивность общественного устройства исландцев была вызвана жаждой славы. За славой скандинав как раз уезжал из родового селения, искать ее в викингских походах или на службе у конунга. А на своей земле, как уже отмечалось, задумывая убийство, исландец делал все, чтобы по результатам остаться в живых, и нападение из засады, часто превосходящими силами, не считалось бесчестным. Но вот последний бой в безнадежных условиях давался в расчете на посмертную славу.
Этот «прощальный салют» не является следствием родовой морали, ибо расплачиваться за него придется родичам убитого, и чем больше он заберет с собой, тем больше виру насчитают родичам. Да, за действия объявленного вне закона родичи ответственности не несли, и Гисли или Торгейр могли рубиться вполне спокойно на этот счет, но обстоятельства бывали разные, а по исландскому законодательству убийства приравнивались друг к другу. Существовало такое понятие, как счет ран, так что случалось, что обороняющиеся по итогам оказывались должны нападающим. Поэтому обязательства перед родом, строго говоря, должны были не вынуждать продать свою жизнь как можно дороже, а наоборот, бросить оружие и принять смерть. А родственники за тебя потом возьмут виру. Или отомстят. Но нет. Если уж смерть приходила в виде превосходящих сил противника, скандинав стремился оставить о себе славу по максимуму, в виде убитых и раненых. Ибо чем больше будет убитых, тем дольше будут о тебе рассказывать.
Слава непосредственно связана со словом. Слава – это то, о чем говорят, и не перестанут говорить. А о чем еще говорить длинными зимними вечерами, как не о боях и о смерти в бою.
Скальдическая поэзия, являясь «связанной» поэтической речью была призвана максимально сохранить память о человеке и о его деяниях. Так как наиболее важной информацией в нормандском мире являлась информация о битвах и смерти в бою, большая часть корпуса исландской поэзии посвящена именно этому.
Стих, в котором нельзя изменить ни одного слова, ибо все слова пригнаны друг другу сложным размером, внутренней рифмой и аллитерацией, был мнемонической вешкой, за которую цеплялась память, восстанавливая события прошлого. Прозаическая речь текуча, она меньше приспособлена для хранения информации, ибо позволяет менять слова по своему произволу, а где замена, там искажения. Поэтическая речь строго фиксирована, каждое слово работает на то, чтобы вспомнить другое слово, стоящее рядом, в результате стихи можно вспомнить через много лет, информация, заложенная в них, сохраняется. Чем формальнее стихосложение, тем меньше возможностей для искажения информации, ибо слова становятся пригнанные друг к другу, как солдаты в строю.
Нет ничего удивительного в том, что висы древнее текста саг. Автор саги ориентировался на висы, чтобы воспроизвести прозаический рассказ о событии. Виса не просто украшала рассказ, она была центральным звеном, вокруг которого рассказ группировался. Вполне возможно, что первоначально скальд-мужчина рассказывал о событиях своим домашним – жене, сестрам, дочерям, поэтому в висах постоянны обращения к неким абстрактным женщинам.
Будучи памятным знаком, виса четко сообщала имена участников распри, их количество, место и последствия. Скандинавы не лгали, и не приукрашивали события. Свидетелями распри становилось множество людей, впоследствии она разбиралась на тинге, с методичными подсчетами кто и за что должен платить, поэтому скальд не мог дать волю фантазии, да он к этому не стремился. Богатство исландского языка и возможности скальдической поэтики вполне позволяло ему обернуть сухое тривиальное сообщение: случилось сражение восемнадцать на пятнадцать. Девять убитых. – в обертку из таких красивых фраз, что банальная распря поднималась на эпическую высоту, а ее участники становились Героями.
Итак, скальдическая поэзия выполняла следующие общественные функции.
– мнемоническую – за счет жесткого сцепления слов сохраняла достоверную информацию о прошлом, обеспечивая преемственность поколений, в том числе в оценке деяний предков, что структуировало и консервировало общество
– эстетизация сражения и смерти в сражении позволяла решить экзистенциальную проблему краткости жизни и необходимости умереть в бою.
Не надо думать, что скандинавы были этакими биороботами, так что им был не ведом страх смерти. Эстетизация, придание сражению и смерти красивости позволяет внутренне примириться с жестокой действительностью и банально не сойти с ума и не покончить с собой от осознания того, что не сегодня, так завтра тебя изрубят в мелкое крошево.
По сути, скандинав жил, как приговоренный смертник в ожидании исполнения казни. Недаром большое значение в ментальности имела судьба, как безличная сила, которая прервет дни в надлежащий час, причем избежать этого невозможно. «Судьбу не оспоришь» – говорили скандинавы. Эстетизация сражения позволяла человеку не только сохранить внутреннее равновесие, но и стремиться испытать свои силы в бою. Красивость придавала сражению общественную значимость, возвышала, делала предметом зависти и гордости, что перевешивало негативные эмоции страха перед болью и смертью.
Известно, что перед началом боя, оставшись без доспехов и предполагая поражение, а то и гибель, конунг Харальд Суровый произнес вису в эддическом размере, и сказал: «Эта виса плохо сочинена, придется мне сложить другую, получше». После чего он произнес другую вису того же содержания, но в дротткветте (дружинный размер), с переплетениями предложений и сложными кеннингами. Виса в той форме, которая позднее будет признана «вычурной» и «не имеющей эстетической ценности» самим скальдом, наоборот, признавалась «красивой», и эта красота долженствовала придать ему мужества в бою, иначе он не стал бы переделывать стихи. В том сражении Харальд Суровый погиб.
– Скальдическая поэзия давала скандинавам мощнейший заряд энергии. Это было не просто развлечение. Слушая скальда, рассказывающего в висах о сражениях и смерти, каждый примерял ситуацию на себя, одновременно восхищаясь поведением героев и принимая их поведение за образец, достойный подражания. Соответственно, когда подобная ситуация застигала человека в реальной жизни, он был к ней морально готов, и действовал по заданному общественному образцу, т.е. геройски принимал смерть, надеясь на посмертную славу.
– В отличие от эддических героических песен, в которых пелось о богах и героях, где действие отнесено в мифологическое либо неопределенное эпическое время, действие скальдических песен происходило практически в настоящем. Упоминание имен, количества участников сражения, географических названий создавало эффект присутствия, в то время как возвышенность поэтического языка придавала участникам описываемых сражений героический ореол, ставила их на один уровень с богами и героями древности, практически уравнивая в восприятии слушающих. Ибо герой скальдических песен, это не просто всем известный бонд с соседнего хутора, но и Фрейр поединков, Испытатель секиры, Дробитель гнезда полоза. Эпический мир героев оказывался рядом, и дверь в него была открыта. Скальдическая поэзия перекидывала мост между «нынешними» временами и героическим временем, и оказывалось, что между ними нет непреодолимой преграды.
Героизация действительности превращала людей в Героев.
БОГИ И ЛЮДИ
Между землей и небом – война.
И где бы ты не жил,
Чтоб ты ни делал
Между землей и небом – война
Война
Кино
Религиозные представления скандинавов формировались в условиях постоянной внутренней и внешней агрессии, потому ничего удивительного, что они были направлены на поддержание высокой боевой готовности общества. Боги скандинавов также находились в окружении злобных врагов, угрожающих самому их существованию, постоянно сражались за свое место под солнцем, а, в конце концов, должен был наступить Регнарек – Сумерки Богов, Конец Света, Заключительная Битва, в которой погибнет старое поколение богов, и в мире воцарятся их сыновья. Деяния богов, а также героев известны по эпическим песням «Старшей Эдды», а также по прозаическим переложениям «Младшей Эдды» и сагам о героях.
Скальдическая поэзия непосредственно вырастала из мифологического и эпического мира, поэтика скальдов базировалась на мифологических аллюзиях, поэтому без знания хотя бы основ мифологии, скальдическую поэзию трудно понять, а при комментировании каждой строки пропадает эстетическое восприятие произведения.
Так как основной жанровой тематикой произведений скальдов было прославление героев – участников битв, большинство аллюзий отсылало слушателей вис к богу Одину.
Один являлся главой скандинавского пантеона, почему именовался Всеотец, Высокий. Он был отцом Тора и Бальдра и мужем Фригг. Впрочем, его нельзя назвать верным супругом, ибо Тора он прижил с Землей, и часто использовал сексуальную энергию в личных целях, как о том повествуется в многочисленных мифах, например, чтобы добыть Мед Поэзии. Будучи Отцом Раздора, Один постоянно вмешивается в земные дела, подзуживая людей убивать друг друга. При этом он не склонен выполнять своих обещаний, так что копье, которое должно приносить победу, в решающий час может сломаться, и вместо жизни ты получишь Вальгаллу. Справедливость не заботила Одина.
В «Перебранке Локи» на обвинения, что
Ты удачи в боях не делил справедливо:
Не воинам храбрым, но трусам нередко
Победу дарил ты.
(Перевод А. Корсуна)
Один не думает отрицать этот факт, а начинает поносить самого Локи:
А ты под землей сидел восемь зим,
Доил там коров, рожал там детей
Ты – муж женовидный.
(Перевод А. Корсуна)
Такой перевод стрелок, который скорее подтверждает слова Локи о несправедливости Одина, чем опровергает их.
Как зачинателя распри Одина можно считать богом войны. Так же Один создал руническую письменность и украл мед поэзии, потому он был покровителем скальдов.
Один имел множество других имен, скальды их знали и пользовались для создания ритмико-аллитерационного узора стиха. Один часто упоминается в скальдической поэзии под разнообразными хейти (поэтическими синонимами), но практически никогда не называется его собственное имя. Можно допустить, что это имя было табуировано, но в распоряжении скальдов было достаточно синонимических имен, хейти и кеннигов.
Один незримо присутствует в висах через мифологические аллюзии, которые в то время были широко всем известны, но для современного читателя требуют расшифровки. Одной из распространенных аллюзий было наименование Одина «владыкой повешенных». Это был намек на миф, в котором Один для того, чтобы заполучить магические знания, прибил себя копьем к мировому древу, не то повесился на нем. В жертву Одину людей приносили путем повешенья либо пронзания копьем, уподобляя их самому богу. По всей видимости, мыслилось, что жертвы становились кем-то наподобие клиентов у Верховного Бога, и наименования Одина, как «собирателя повешенных», «владыки повешенных» встречаются довольно часто.
Один владел Вальгаллой – Палатами Павших, где в преддверии Рагнарека, собирал наиболее отличившихся воинов. Предполагалось, что душа воина старится вместе с телом, потому Один часто предпочитал, чтобы воители заканчивали свою жизнь молодыми, дабы его потусторонние бойцы-эйнхерии были полны энергии. Чтобы попасть в Вальгаллу, необходимо было погибнуть в бою.
Намекали на Одина постоянно поминаемые в поэзии птицы-падальщики, особенно вОроны. Как известно, на плечах Одина сидели два вОрона, которые облетали землю и рассказывали богу обо всех делах. ВОроны выступают в поэзии как предвестники битвы и смерти, что неудивительно, ибо птицы Одина являли его волю на земле. Скальдическая поэзия насыщена птицами-стервятниками. Кроме вОронов, это соколы, ястребы, орлы, орланы, даже чайки и «чайчата». Животные падальщики практически не упоминаются.
Иногда встречаются аллюзии на волка, но очень туманные. Можно предположить, что Волк, будучи эсхатологическим животным, который в Конце мира поглотит Одина, был табуирован, и намеки на Волка придавали особую мрачность произведению. Так же можно предположить, что птицы представлялись скандинаву посланниками Небес, поэтому стать «пищей вОрона» значило в конечном итоге, опять-таки попасть на небо, к Одину, в Вальгаллу, в то время как бродящие по земле животные – медведи, волки, лисы – были хтоническими существами, и, соответственно, стать их пищей, значило провалиться в Хэль.
Валькирии – крылатые девы – незримо присутствовали в битве. По приказу Одина они давали в бою победу или смерть, а также отбирали наиболее достойных ратников и приводили их в Вальгаллу. Там славных воинов ждал нескончаемый источник пива, вечный вепрь, которого ели, а на утро он вновь воскресал, чтобы вновь быть забитым и поджаренным, а также вечная битва, в которой погибшие вновь оживали, наподобие того вепря. Сексуальных утех не предполагалось. Валькирии подносили энхериям кубки с пивом, видимо, этого было достаточно.
Можно предположить, что по представлениям скандинавов настоящий герой должен быть сексуально сдержанным. Торгейр, названный брат Тормода Скальда Чернобровой, о котором не раз упоминалось, говорил «что волочиться за юбкой, унижает его мощь». Впрочем, скальдам традиция приписывала женолюбие. Представляется вероятным, что частое обращение к женщине в висах, как «подательница пива», могла быть аллюзией на образ девы-валькирии, встречающей энхериев с кубком в руках.
Умершие от старости и болезни попадали в Хэль. Собственно, Хэль – это и есть смерть. Ее представляли в виде уродливой женщины, бледной и костлявой.
Представления о посмертии были у скандинавов путанные. Так, они верили в оживающих мертвяков, которые приходят из могил и изводят живых людей. Таких мертвяков часто приходилось успокаивать повторно, путем отсечения головы и приставления ее к ляжкам, были и другие способы. Души умерших можно было вызвать, чтобы заручиться свидетельством об их смерти. Такой спиритический сеанс описан в «Саге о фарерцах». Убитый Сигмунд явился окровавленным, а в руках держал собственную голову. Так была доказана его насильственная смерть. Судя по всему, предполагалось, что увечья, полученные физическим телом, останутся в ином мире.
Утонувшие оставались в подводном царстве Ран-морской владычицы. Их посмертная судьба никого не волновала.
Неоднократные описания в скальдической поэзии, как Один встречает героев в Вальгалле, а также графические изображения женщин с кубками в руках делают вероятным, что скандинавы реально верили в потустороннее существование в Палатах Одина. Это не были какие-то абстрактные умствования отдельной узкой группы, наоборот, это было глубокое религиозное чувство, служившее мощной мотивацией идти в битву и погибнуть насильственной смертью.
В сагах иногда описаны герои, которые утверждают, что «верят только в себя, свои силы», сообщается, что они не приносят жертв на капищах, разочаровавшись в поддержке языческих богов. Таким был Гисли сын Кислого. Представляется, что подобные утверждения вложены в уста героям саг авторами-христианами, которые на свой манер облагораживали древних язычников, приписывая им отказ от веры предков.
Скандинавы верили в судьбу. Судьба в их понятии не была чем-то простым и однозначным. С одной стороны, она представала в виде безличной силы, Предопределения, с которой невозможно бороться ни богам, ни людям. Один и другие боги знают, что настанет Рагнарек – Конец Света, в котором Одину предстоит погибнуть в пасти Волка.
Так же герои саг часто бывают предупреждены о своей участи, и ничего не делают для того, чтобы ее предотвратить. Поведение их не кажется разумным, но на самом деле, они знают, что сделать ничего нельзя. Предопределенное все равно произойдет. Скальдические стихи наряду с жанром, воспевающим героизм в сражении и смерть в бою, часто посвящены пророчествам. Судьбу можно узнать, но изменить ее нельзя, ее можно только принять. Скандинав принимает судьбу не с покорностью обреченного, он бросает ей вызов, устраивает «прощальный салют».
Другое понимание судьбы присутствовало в ментальности, как осознание причинно-следственных связей, где поступки героя вызывают необходимую цепочку последующих событий. Судьба героя заключается в том, что он, полностью осознает эти связи, но поступает так, как поступает, «выращивает свою судьбу».
Будущее в ментальности скандинавов существовало наряду с прошлым и настоящим, т.е. судьба – это состоявшееся будущее. Время воспринималось не в линейной последовательности процессов, а в непосредственной данности. Будущее, судьба – это не вероятностные события, которых нет, а состоявшееся событие, о котором ты еще не знаешь, для тебя оно в будущем, но на самом деле оно уже запечатлено в некой матрице. Из того, что оно уже состоялось и следует, что ничего изменить нельзя
Будущая судьба как бы отбрасывает тень в прошлое, которое для героя является настоящим. Такой тенью будущего выступают некие «знаки», которые могут отражаться на лице героя и которые могут видеть другие люди. «Тебе суждено более удачи, чем твоему названному брату», – говорит конунг Олав Святой Тормоду, принимая его на службу. На тинге все встречные – поперечные сообщают герою – Скарпхедину, что он обречен, они видят это по его лицу: «Кто этот человек, с лицом неудачника?», – задается каждый вопросом. Тенью будущего в настоящем выступают сны, пророчества, видения, даже жесты. Хельги сын Дроплауг трет лицо там, где ему будет нанесена рана, ее нет, но она уже есть, герой чувствует в настоящем то, чему только предстоит наступить.
Олицетворением судьбы выступали женщины – Норны или Дисы. Они могли придти герою во сне. Как рассказывал Гисли сын Кислого, он видел двух женщин, одна добрая, и всегда дает хорошие советы, а другая… пророчит дурное. Выше уже отмечалось амбивалентность отношения скандинавов к женщинам, которая проявляется и в этом рассказе, но более развитое сознание Гисли разделяет архаичный единый в добре и зле облик женщины-дисы на два, появляется не характерная для скандинава поляризация сил добра и зла, но здесь они еще не абстрактные понятия, а вполне конкретные существа, хоть и сверхъестественные: одна пытается спасти героя, другая – погубить, причем спасение и погибель не метафоричные, а самые что ни на есть реальные, относящиеся к его физической жизни.
В обращениях к абстрактной и не очень женщине в скальдической поэзии часто фигурирует имя Дисы, таким образом, женщина ассоциативно связана с пророчицей и хозяйкой судьбы, которой герой, по сути, дает отчет о своих деяниях.