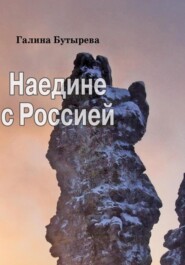
Полная версия:
Наедине с Россией
А с утра снова в лодку и снова на свой, уже такой родной мысок!
Но второй день уже разительно отличался от первого. Да, клевало, да, ловилось, но не как вчера!.. К тому же дождичек время от времени брызгал… Недолго нас баловала Печора…
Вечером, когда наши соседки слева поплыли домой, они пристали к нашему мыску. Мы познакомились. Все четверо были из Бугаево (там, где мы оставили машину). Сюда приезжают за морошкой. Двое идут по ягоды, а двое остаются у лодки – рыбачат.
Мы договорились, что завтра они нам купят в магазине вёдра и привезут морошку, по ведру, а заодно и сахарный песок, чтобы уже здесь нам посыпать ягоды сверху для пущей сохранности (как будем таскать вёдра с морошкой и рыбой от лодки до машины почти метров 300, а то и больше, по пескам… мы тогда не подумали, конечно…).
На третий день погода и вовсе испортилась, и дождь уже не просто побрызгает и перестанет, а почти льёт, и ветер набирает силу… И сидим мы, завтракаем и решаем, плыть или не плыть на наш мысок. А если наши бугаевцы привезут морошку, а нас не будет? – нехорошо ведь получится…
Одним словом, мы гадали недолго, поплыли, и правильно сделали, потому что бугаевцы (тоже, кстати, посомневавшись) приплыли и морошку нам привезли…
В этот день рыба уже и вовсе на нас чихать хотела… Можно сказать, почти ничего не поймали.
Люба пошла выше (оттуда рыбаки уехали), где когда-то было устье какой-то речушки, ныне почти высохшей… Цент ушёл ниже. Я одна осталась на нашем месте. Ловила. Фотографировала камни, которые под дождём стали особенно красивыми (как мне показалось), опять ловила что-то время от времени.
Стою в воде на камнях, забрасываю спиннинг, но блёсны (как всегда! – конечно, не те взяла…) летят недалеко, а мне кажется, что если бы половить с лодки… Но Цент уплыл на ней. Лодки нет. Ну и ладно. Бросаю спиннинг уже, кажется, машинально, без азарта – рыба–то где?!. Нет рыбы! Не нравится ей погода, вот и всё…
И вдруг!
Я даже вскрикнула: «Ой!»
Буквально передо мной, правда на довольно большом расстоянии, я увидела горбатую спину огромной печорской сёмги! На вид, как я теперь думаю, килограммов так на тридцать-сорок… Показалась голубушка, и всё! Ушла куда-то в верховья…
Я много раз видела и на Вашке, и на Мезени, как прыгает сёмга, как резвится на перекатах, но такую большую – впервые в жизни…
Надолго мне хватило этого чудного мгновенья – всё переживала, что только я это видела: ни Любы, ни Цента не было рядом…
Не дай бог, такая взяла бы мою блесну – и меня бы за собой утащила… вот если хотя бы килограммов так на десять, ну пятнадцать… Может, и вытащила бы…
А эту… Не-ет, не надо. С этой можно инфаркт получить – от расстройства, когда уйдёт, всё переломав…
Когда мои друзья вернулись, я почти взахлёб долго описывала явление мне сёмги…
* * *Утром следующего дня разыгралась настоящая буря! Берёзки, которые росли перед нашей избушкой, буквально прибило к земле. Печора потемнела, недобрая сразу стала, неприветливая…
Опять пришлось голову поломать – плыть или не плыть? Не на рыбалку, конечно, куда там!.. Какая может быть рыбалка в такой почти шторм…
А домой?! – если погода будет ещё хуже и будет это надолго, мы тут и застрянем…
Думали-думали и решили плыть. Домой! Собрали вещи, загрузили всё в лодку, закрыли избушку, и… вот наша «казанка» уже на печорской волне… Нам надо было обогнуть песчаный зыбучий полуостров перед избой и выйти к берегу другого полуострова, под которым, наверное, сумеем спокойнее выбраться на фарватер…
Я сидела спиной к носу, передо мной Любина спина, за ней, у мотора, – Виталий Филиппович…
Плывём. Я на всякий случай посматриваю на берег: если перевернёмся, найду ли за что зацепиться…
А Люба, оказывается, даже сапоги поснимала, чтобы в случае чего легче было выбраться из воды. В её большой рыбацкой биографии уже было несколько серьёзных происшествий. Об одном мы даже писали в нашем журнале «Арт» в пересказе ухтинского литератора Дмитрия Кривцова.
Я читала про себя «Отче наш».
Люба тоже молилась. И даже плакала! – оказывается…
Потихоньку, потихоньку наша лодка выбиралась из хаоса, который бурлил вокруг нас. Взбаламученное штормом побережье осталось позади, мы прибились к другому, более спокойному берегу, и лодка сразу пошла и легче, и быстрее…
Слава богу, плыть нам надо было не очень далеко. А вскоре и вовсе показалась стрела крана на левом от нас берегу Печоры: здесь кто-то заготавливал лес, видимо. Рядом стояли лесовозы. Чуть поодаль – пока полупустая баржа…
* * *А теперь предстояло всё, что наловили и «насобирали» (бачки с рыбой и два десятикилограммовых ведра морошки плюс два килограмма сахара), перетащить из лодки до машины по зыбучим пескам всего «чуть–чуть» – так с полкилометра, наверное…
А ведь ещё был мотор, который весил более сорока килограммов…
Погрузили его на носилки, и Люба с Центом пошли… Я честно предлагала свою помощь, чтобы сзади вместе с Любой бы мы несли, но зря… не допустили. Картина – даже не подберу названия…
Что–то из жизни рабов… Рабов своих страстей… Когда я тащила ведро с морошкой, увязая в песке, – в который раз! – я думала: «Тебе это надо?!.»
А надо! Это вот и называется, когда «охота пуще неволи…». Ведь как стремится душа в такую вот «дикую» поездку, ну да, жалеет потом и всё проклинает, и так бывает. Но пройдёт какое-то время, и душа опять соблазнится, обязательно соблазнится, когда кто-нибудь позовёт куда–нибудь на Печору, или на Мезень, или Мыдмöс, или Йöвву…
Вот на днях заехал двоюродный брат в гости, рассказал, как рыбачили на Йöвве (приток Вашки), и мне так захотелось на Йöвву… Тем более что однажды мы уже сделали попытку попасть туда с Мезени… не получилось. Надо, чтоб получилось!
* * *Вернувшись из Якшино, мы переночевали в Усть-Цильме. Наш хозяин Юра затопил баню. А мы с Любой пошли на Печору, благо она тут рядом. Не сидеть же без дела…
У реки уже стояли несколько рыбаков. Среди них я разглядела двух женщин, которые уютно расположились на небольшом каменистом мыске. Приди мы раньше, тоже бы выбрали это место…
Дело шло к закату. Но у нас пока не ловилось. У наших соседей, кажется, тоже.
У меня обычно при таком исходе дела терпения хватает ненадолго, и я начинаю скучать. Накидавшись досыта, насидевшись, настоявшись, я решила сходить к соседкам, узнать, как у них дела… Обычно я это никогда не делаю, а тут почему–то пошла.
Женщины ждали клёва и присели на камни перекусить. У них тоже не ловилось, оказывается. Я уже хотела вернуться, но тут одна из женщин узнала меня.
– Слышу,– говорит,– голос знакомый…
Мы разговорились. О том о сём.
Видно, вторая рыбачка не сразу догадалась, кого узнала её подруга, вступила в наш разговор позже.
– А, так это вы вчера в Якшино купили два ведра морошки?
– Да-а! А как вы об этом узнали?
– По телефону! С одной из этих женщин разговаривали, вот она и рассказала про вас…
Действительно, всё так просто! Ну и что, что Бугаево отсюда почти за 100 километров… в Усть-Цильме уже наслышаны о городских рыбачках… «Цивилизация!» – как говаривала мама Тани Васильевой.
* * *В Усть-Цильму, я уже писала, летела на Ан-24, а вот в обратную дорогу я решила отправиться на машине. Уж больно живо описывали свой путь в Усть-Цильму Люба с Виталием Филипповичем. Кроме того, я уже наслышана была, какие приходится преодолевать на этом пути испытания тем, кто рискует отправиться на машине. Летом! Не зимой… По зимнику (если не забудут пройтись грейдером) можно как по асфальту прокатиться. А вот с весны до осени, особенно после дождей, дорога превращается в сплошное месиво глины, попробуй нащупай, где проехали до тебя…
Нам, можно сказать, крупно повезло, в первую очередь с погодой. Дождей, видимо, в здешних местах в последнее время не было, ехали без особых приключений.
Где–то дорога превращалась в «стиральную доску», с той лишь разницей, что «валы» поднимались куда выше, чем «лежачие полицейские» на городском асфальте, так нелюбимые автовладельцами… Наш «кореец» довольно легко преодолевал их, вскарабкиваясь наверх и ныряя вниз…
Где–то дорога чётко делилась на две половины: на более проходимую и совсем не проходимую… Можно было представить, как здесь чешут репу горе-водители, когда всё заливает дождями. Что там, под водой, поди разберись. Залезет какая–нибудь «Лада» с той стороны, где нынче сухие полуметровой глубины траншеи, и каюк будет «Ладе»… И даже не каждый грузовик проползёт, наверное…
«Серпантин», «Мёртвая колея», «Направление» – какие только названия не дают водители этой дороге Ухта – Усть-Цильма, вся длина которой около четырёхсот километров. Но самые «весёлые» из них – семьдесят три километра, между Ухтой и Малой Перой, конечно…
Но, я уже говорила, нам повезло. И мы «допрыгали» до Ухты без осложнений. Только однажды наш джип побуксовал в песке. Но «кореец» довольно легко справился и с этим участком…
Слава богу!.. И слава нашему водителю, Виталию Филипповичу!
Мне можно было и обратно в Сыктывкар улететь на самолёте, но благодаря чувству солидарности, с одной стороны, и любопытству (наверное, журналистскому), с другой, я преодолевала трассу Усть-Цильма – Ухта вместе с друзьями… И не жалею. Тем более что проехали мы все четыреста километров (и даже семьдесят км «мёртвой петли») без особых приключений… Зато теперь я знаю, что такое наш знаменитый уже на всю Россию «серпантин от Малой Перы до Ухты»…
Кстати, перед самой Ухтой несколько километров такой проложили асфальт, какой я и не припомню, где видела в последний раз. Чёрный, чуть не до зеркального блеска, ровный–ровный… Просто автобан! У «корейца», после четырёхсот километров «сафари», на этом асфальте, кажется, крылья появились, он почти летел… ведь могут же, если захотят, и наши хорошие дороги строить… Жаль, что только несколько километров продолжался этот праздник…
2011 г.
Записки о чёрной бане
По поверьям, наши предки считали баню особенным местом – якобы там сходились два мира: этот и потусторонний. Поэтому в бане не только парились, но и рожали детей и лечились от разных болезней и т.п.
Я сама помню из детства, как меня, ещё маленькую, тётя Мария ставила под матицу и выжимала над моей головой мою рубашку, приговаривая что-то при этом… Чтобы не болела…
К сожалению, я не запомнила, что конкретно она говорила при этом. Уже гораздо позже прочитала у Ирины Ильиной некоторые заговоры, которые я бы, скорее, назвала народными молитвами.
Обычно детей в бане парили бабушки. Каждая – кладезь таких заговоров. Самый, пожа-луй, по–моему, замечательный заговор я впервые прочитала в антологии коми поэзии. Приведу только подстрочный перевод: «Будь чистым, как рябина, цвети, как купальница, ширься, как берёзовый лист… Пусть белым станет тело твоё, пусть светлой станет кровь твоя… Ножки, ножки, бегайте, книзу корни пустите, кверху листья распушите… Чесотку – свиньям, кашель – овцам, болезни – медведям…» И т.д. Поверьте, по–коми это звучит как самое что ни на есть высокохудожественное поэтическое произведение. И таких примеров множество!
Строили у нас бани прежде из нескольких видов деревьев. Фундамент – из лиственницы, стены – из ели, а уж скамейки, полки – из не очень смолистого материала…
Почему лиственница – понятно. Она не гниёт. А вот ель – для лёгкого духа! У неё запах замечательно -вкусный, а может, правильнее будет сказать – здоровый?
К сожалению, нынче уже, наверное, мало кто строит бани по старинной технологии, а жаль…
* * *Где-то в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов прошлого столетия мы с друзьями–коллегами купили дом в селе Иб (точнее, взяли в аренду). И баню в придачу… Она стояла чуть в стороне, маленькая, неказистая, одним боком уже немножко ушедшая в землю… А внутри и вовсе был полный раздрай! Печка-каменка разрушена, котла не было, полки тоже кто-то растащил… Но тем не менее мы решили баню привести в порядок, а то живём в деревне (жили, правда, только по выходным…), а попариться и негде.
И ведь мы, три женщины! – Марина Филатова, сестра Клары Пыстиной, Нина, и я – за пару дней нашу баньку довели-таки до ума!.. И затопили (кстати, и котёл нам удалось приобрести где-то!..). Я росла в деревне, но никогда до этого чёрную баню не топила…
Дым спустился чуть ли не до полу – сизый, густой, едкий… Чтобы подбросить дрова в каменку, надо было буквально ложиться на живот и подползать к печке…
Через несколько часов от дыма ничего не осталось и мы рискнули пойти попариться… И ведь никто не угорел! Камни в печке были горячие, и мы, подкидывая на них воду, вдоволь нахлестались свежими берёзовыми вениками. Какая же это когда-то была баня, если даже после стольких лет смогла несказанно порадовать нас вкусным сухим жаром!.. Уж точно её строили по старинке ещё…
Разморённые, сколько раз мы тогда (и после!..) выходили в сени, где на полках устроили лежанки, и сквозь огромные щели любовались открывающимися в них далями: пейзаж был потрясающий – зелёные гороховые поля, холмы за дорогой, деревянная часовня на одном из холмов…
Столько лет прошло, а душа и сегодня отзывается на ту красоту.
* * *Где впервые появилась баня в том виде, какой дошла до нас, спорить можно долго. Ясно одно, что где-то на Севере, там, где хо-олодно…
Ведь как же приятно после мороза отходить на горячих деревянных полках! Или, помахав горячим берёзовым веником, выбежать на снег и, окунувшись в мягкий сугроб, снова забраться на полки… Это кто сможет, конечно.
У нас часто шутят, что сауна – это коми слово. «Са» – сажа, «уна» – много. А что представляет собою чёрная банька? Это небольшое деревянное строение с печкой–каменкой. Без трубы. Дым заполнял всё пространство парилки от потолка и почти до самого пола, потому что выход был один – через небольшое отверстие прямо в стене, даже не на крыше… Поэтому стены в бане изнутри всегда были чёрные, в саже.
Нынешние сауны большие, совсем небольшие, с бассейном, без бассейна… Каких только не понастроили, даже можно сауну купить в готовом виде и устроить в квартире. У моих соседей есть. Но я к сауне отношусь, мягко говоря, прохладно. Хотя и с удовольствием составлю компанию, если пригласят…
Но одна сауна оставила–таки след в моей душе.
Была зима 2000 года.
Я по дурости согласилась баллотироваться кандидатом в депутаты в Государственный Совет нашей республики (чуть раньше хватило ума отказаться от предложения пойти в Госдуму! – а тут…).
Проехав едва не весь Княжпогостский район, я почти на две недели застряла на родной Удоре. Ездила по посёлкам, встречалась с людьми, когда где, чаще в холоднющих клубах… И возвращалась в гостиницу просто никакая. Спасибо Нине Николаевне, хозяйке гостиницы, – к моему приходу она готовила сауну, и я забиралась на самую верхнюю полку и постепенно оттаивала… Приходила в себя. И ведь даже не заболела.
Так что сауна, конечно, тоже хорошая придумка, но настоящая чёрная баня, где действительно «много сажи» (са-уна), – всё равно лучше!
* * *В какой бане парили меня в детстве? Наверное, тоже в чёрной?.. Родители рассказывали, что, маленькая, я в бане всегда спала. Когда я услышала об этом в первый раз, я всерьёз всполошилась: спала?! А может, мне плохо было? А может, я без сознания лежала? А вы даже не знали, что чуть не потеряли меня…
Родители в ответ только посмеялись.
Но как бы там ни было, став постарше, годам так к пяти, я невзлюбила баню. И связывала это именно с тем, что родные, наверное, «перепарили» меня в младенчестве. И теперь каждый поход в баню сопровождался всяческими моими отговорками. Но идти всё равно приходилось, и в самой бане начинался второй раунд моего сопротивления попыткам старших затолкать меня на полку. Родители не хотели верить, что мне действительно нехорошо становится в жаре, думали, мне просто лень париться. Но однажды после бани я грохнулась без сознания, не дойдя до дома, и после этого мне удалось значительно сократить своё пребывание в бане…
И так продолжалось довольно долго.
* * *Наверное, с баней меня окончательно примирила та же необходимость, которая и заста-вила наших пращуров придумать её…
С шестого класса каждое лето, вплоть до окончания средней школы, мы работали на сенокосе. И было это не под боком родительского дома, а за двадцать километров по речке Мыдмöс, на сенокосных угодьях колхоза им. Сталина… Жили мы своей бригадой, почти десять человек взрослых и детей, в лесной избушке, которая больше смахивала на деревенскую баньку. У иных хозяев нынче бани куда круче, чем была наша изба в местечке Шунъёльдiн… Но как-то мы умудрялись помещаться в ней всей бригадой.
Кушать готовили в «коле», в предбаннике. Там и костёр разводили (благо кругом зияли дыры и было куда дыму деваться). Там же стоял длинный стол из рубленых брёвен и такие же скамейки. За этим столом мы задерживались только перед сном – но и тогда особенно не засидишься, утром разбудят ни свет ни заря, выспаться бы…
Спали в избе. Кто на лавках вдоль стен, кто на полу. С собой привозили чехлы от матрасов, набивали их сухим сеном (по-моему, осокой – она и сохнет быстрее, и не сваливается; но первую ночь приходилось крутиться на голых досках…). И ничего, что спали на сеном набитых матрасах, – спали как убитые… Пока нас не будил зычный голос нашего бригадира, дяди Вани, Ивана Фёдоровича Павлова.
Завтракали. Косили, пока роса. Переворачивали скошенное накануне, готовили обед, кушали, снова шли на луга – сгребали высохшее сено, копнили, копны таскали к стогам, стоговали, шли к избе, готовили ужин, ужинали и на боковую… До нового восхода солнца…
Через дня три-четыре все разговоры невольно сводились к… бане! Несмотря на ежедневные купания, без бани на сенокосе не обойтись.
Всё своё кунды-мунды выносили из избы в «колу» и топили печь-каменку. В этой груде камней всегда есть место, куда можно подкла-дывать дрова. А топится она и впрямь как печка. По-чёрному. Настоящая чёрная баня и получается…
Конечно, с горячей водой у нас было посложнее. Поскольку берег высокий, из реки не натаскаешься. Да и заливать избу тоже не хотелось. Нам в ней после бани спать укладывать-ся… Поэтому у нас в бане в Шунъёльдiне главная задача была попариться, похлестать искусанные комарами и оводами места берёзовым веником, а уж смывать всё, что не смыли, – в реку!
И вот первая партия (мужская) попарилась и уже бултыхается в Мыдмöсе. А потом и наша очередь (девчоночья) настаёт. Римма, тётя Дуня или тётя Глаша (кто приехал на вахту) и я долго и нещадно бьём себя вениками, смываем остатками горячей воды грязь и пот и тоже спешим к реке – она уже ждёт нас, голубушка…
И тут начинается вторая часть удовольствия – после банного… Голышом ты входишь в речные струи и замираешь от неземного восторга.
Сколько буду жить, столько буду снова и снова переживать эти фантастические ощущения совершенно счастливого человека…
* * *И ещё одна баня, тоже по-своему фантастическая, была в моей жизни. На этот раз – на Выми.
В походах обычно как водные процедуры принимаешь? – девчонки бегут налево, мальчики – направо. Разделись догола и бултых в воду. И хорошо, если вода не ледяная, а то ведь наши северные реки без подогрева…
На Вымь мы отправились с туристами из Княжпогоста, т.е. Емвы – как теперь называется этот посёлок или город?
Учителя из Княжпогоста и Тракта, один парень с механического завода, один старшеклассник и двое туристов из Сыктывкара.
Через дня три-четыре, я слышу, мои спутники решили истопить баню. Как? Где? Никакой бани я пока нигде не видела. В избе, что ли, в которой переночевали?
Оказалось, нет. Бывалые ребята–туристы прихватили с собой специальную «банную» палатку!
Сначала мы всей компанией таскали в одну кучу речные камни разной величины. Затем из них мужчины сложили нечто вроде печки-каменки и затопили… Довольно долго топили, прокаливали камни. А ведь ещё и воды надо было нагреть. Нагрели и воду. И затем раскинули над печкой–каменкой «банную» палатку с большой круглой дырой, специально проделанной в середине палатки. И стали ждать, когда воздух внутри палатки нагреется от раскалённых камней. И дождались! И попарились на славу! Хватило и на мужчин, и на женщин. И опять же с пылу с жару прыгали, разгорячённые, в воду и назад в палатку, к печке… Опять хлестали вениками по распухшим от укусов мошкары рукам… И опять – в воду…
Незабываемые ощущения из детства вернулись ко мне, словно и не было позади долгих–коротких тридцати лет (или больше?!).
Господи! Хорошо-то как… Сказала и вспомнила ещё одну баню – баню в верховьях Печоры, на последнем кордоне, куда мы приплыли однажды на трёх лодках. Нас с Мариной Филатовой вёз Аслан, добрый человек из Якши… И всё посмеивался, когда мы, оглядывая открывающиеся вокруг просторы, почти постанывая, непрестанно повторяли: «Хорошо-то как, Господи…» Посмеивался, потому что знал анекдот, который заканчивался этими словами. А мы не знали! И всю дорогу только и твердили: «Хорошо-то как, Господи!»
Ну если и вправду было хорошо? И на Печоре, и на Выми, и на Мыдмöсе…
* * *В первый раз мы прилетели на это уральское озеро золотой осенью. Вертолёт сделал круг над озером (на самом деле их, оказывается, было два озера, соединённых неширокой перемычкой…) и приземлился на деревянный помост прямо посередине открытого болотца… Лето было жаркое, и мы без труда добрались до избушки – мох был высокий, но сухой. Изба была срублена недалеко от озера, и из окна открывался вид, который и не художника привёл бы в трепет. С той стороны озера возвышалась небольшая пологая гора, вся в ослепительном осеннем убранстве… К тому же и день выдался солнечный, ясный. Наскоро позавтракав, мы полетели дальше, на речку.
И какая это была замечательная рыбалка! Я пристроилась напротив большого камня и старалась закидывать блесну выше и вести вокруг камня, и это срабатывало. Как только моя блесна оказывалась по течению прямо напротив валуна, хариус тут же хватал блесну, каждый раз заставляя вздрагивать моё сердце и биться чаще…
Наловившись, мы полетели обратно к избе, где нас уже ждала готовая банька.
Баня была, как все бани на Севере, с печкой–каменкой, жаркая, сухая. Хозяева приготовили вдоволь и горячей, и холодной воды. И конечно, берёзовые веники. В нашей довольно большой компании было три женщины – Люба Розе, Марина Филатова и я. Все заядлые рыбачки. И все заядлые банщицы. Правда, я уже не очень… Потому что не выдерживала долго париться, как мои друзья. Но какое это восхитительное ощущение! – после парилки, отхлеставшись берёзовым веником, вылить на себя ведро холодной воды. Особенно летом. Стоя на земле… И почти реально чувствовать, как ты прорастаешь в неё…
Мы в этой бане парились ещё пару раз зимой. Но уже не обливались. А самые смелые шли к озеру, где в прорубь была спущена деревянная лесенка, и окунались в ледяную купель! Все, кроме меня… Духу мне не хватило спуститься на дно озера… Даже не потому, думаю, что «мороз и солнце», а из–за какого–то необъяснимого страха: а вдруг там «хозяин» за ногу схватит?.. Наслушалась в детстве сказок, начиталась, вот и не купаюсь в озёрах. В речках – да! Сколько угодно! И в каком виде угодно – хоть совсем голышом. А вот в озёрах – нет.
Хотя несколько лет назад, в Эстонии, нас друзья повели на болота… по деревянным мосткам! Наверное, я так изумилась изобретательности эстонцев, что потеряла всякую осторожность. Они на болоте проложили такой своеобразный познавательный маршрут: ты идёшь по деревянным мосткам, тебе показывают всё, что растёт рядом и вдали, объясняют, более того, вместе с экскурсоводом туристы могут забираться на специальные вышки и с них обозревать окрестности (я поднималась, далеко видно)… Очень интересная получается экскурсия. Пока мы шли вглубь болот, встретили большую группу немецких туристов. Они уже возвращались назад. Очень довольные.
Мы дошли до места, где в болоте зияли два довольно больших озерка, а вокруг – те же мостки… Сайма, которая водила нас по этому необыкновенному маршруту, стала раздеваться:
– Айда, девки! Будем купаться!
Я не поверила, что она не шутит. Но вот уже Сайма спустилась с мостков в воду и поплыла! Тут что-то щёлкнуло внутри меня… И я тоже обнажилась и поплыла…
«Боже мой! – думаю я теперь. – Куда занесло?! Ведь наверняка в этих болотах и дна-то никакого нет…»
Потом мы выползли на берег, точнее на мох, этакий зелёный ковёр, и поблаженствовали от совершенно необъяснимого чувства – наверное, абсолютного слияния со всем окружающим нас болотным миром… Возлежали, издавая при этом нечто из самых своих глубинных глубин…
Наверняка немцев тоже искупали в этом болоте… уж больно у них были счастливые лица…

