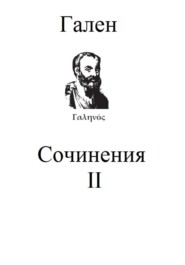 Полная версия
Полная версияСочинения. Том 2
Для текстов Галена характерно, что любая теоретическая посылка немедленно подвергается критическому анализу с помощью наглядных примеров из клинической практики или простых и разумных бытовых ситуаций, понятных каждому. Именно таким образом анализируется главная причина развития болезней – дурное смешение сущностей, приводящее к развитию сильного жара (фрагмент 2). Любой врач прекрасно понимает, что повышенная температура тела – важнейший симптом многих заболеваний. Гален показывает, как в ряде ситуаций организм человека может быть охвачен жаром. Вспомним, что в системе Гиппократа и Галена здоровье и болезнь – понятия количественные. Гален все время подчеркивает это, описывая случаи из своей практики: так, он указывает, что кратковременное повышение температуры тела может быть как физиологическим (локальная гипертермия вследствие физической нагрузки), так и патологическим (жар при лихорадке или воспалительном заболевании). Приводимые им примеры помогают читателю понять, что воспалительный процесс может оставаться локальным или генерализовываться: «…в первую очередь нагреваются воспаленные части тела, а затем они сообщают тепло прилежащим частям, а те, в свою очередь, нагревают уже части, соприкасающиеся с ними. Таким образом, когда неправильное смешение [жидкостей] соприкасается с первопричиной (ἀρχή) природного тепла, то все тело становится подвержено влиянию этой первопричины». Сходным образом Гален разъясняет патогенное влияние противоположного нарушения благосмешения сущностей – сильного охлаждения (фрагмент 2).
В процессе анализа воздействия на организм гипертермии и гипотермии Гален обращает внимание на очень важное обстоятельство – индивидуальные особенности реакции организма пациента. Действительно, один и тот же объем физической нагрузки, внешнего воздействия высоких или низких температур, одинаковое количество и род принимаемой пищи или лекарств может легко переноситься одним пациентом, а у другого вызвать тяжелое расстройство здоровья. Тем самым Гален вводит в клиническую практику важный аналитический аспект, который в наши дни называется «индивидуальной реактивностью» организма пациента. К нему же относится современное представление об индивидуальной переносимости пациентом тех или иных способов лечения или разных доз фармацевтических препаратов.
Следует подчеркнуть, что историк, работающий с таким источником, как медицинский текст, должен быть крайне аккуратен. Ученый не должен делать далеко идущие умозаключения о соизмеримости научного знания разных эпох на основании туманных утверждений автора или вольной интерпретации его высказываний. Это прежде всего касается текстов античных врачей, исследовательская программа и структура знания которых отличались от современных. Именно поэтому мы позволяем себе подобные обобщения только тогда, когда, во-первых, Гален четко и недвусмысленно разъясняет свою позицию и, во-вторых, когда анализ многих его текстов позволяет говорить о системном характере его представлений. В некоторых случаях мы вправе «перебросить» умозрительный «мостик» между системой Галена и современной научной теорией, указав на великого римского врача как основоположника тех или иных подходов. Вопрос об индивидуальной переносимости различных патологических воздействий как раз и относится к такого рода приоритетам. Гален предлагает рассмотреть, «какие качества тела живого существа приводят к тому, что оно становится подверженным нагреванию по природе своей, а какое нагревается тяжело» (фрагмент 2). Он использует понятия «холодные болезни» и «горячие болезни» (фрагменты 2 и 3). Окончательная редакция перевода данного трактата и решение использовать в тексте на русском языке именно эти формулировки стала результатом непростой дискуссии внутри коллектива, работавшего над этим томом[208]. В конечном счете было принято решение не использовать схожие по смыслу выражения «переохлаждение» или «гипертермия»: из текста следует, что Гален имеет в виду именно системный характер описываемых патологических состояний. Например, в случае «холодных болезней» речь не идет о простом внешнем воздействии в виде переохлаждения: Гален говорит о состоянии, в которое приходят основные начала организма человека в момент непосредственного наступления болезни. По сути, он уточняет свой взгляд на проблему индивидуальной реактивности организма. Один человек легко перенесет кратковременное переохлаждение или гипертермию (именно в этом случае мы говорим о физиологической реакции, по окончании которой он остается здоровым). Организм другого пациента не может сопротивляться внешнему воздействию, и в нем произойдет сущностная перестройка, представляющая собой нарушение соразмерности смешения начал. Именно поэтому Гален приводит ряд бытовых примеров (их можно назвать простыми аналогиями из физики), которые помогают показать системный характер влияния холодного воздействия (фрагмент 3). Таким образом, выделяется несколько причин «холодной болезни», в принципе совпадающих с причинами «горячей болезни»: во-первых, сам факт внешнего воздействия, во-вторых, взаимодействие внешнего воздействия с интенсивностью внутреннего тепла, в-третьих, чрезмерное сжатие. Естественно, что базовое внешнее воздействие тепла или холода вызывает различное проявление болезней с важной поправкой на индивидуальную реактивность организма пациента.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о «чрезмерном сжатии». Здесь Гален, конечно же, использует физические понятия своего времени, поэтому современному читателю фрагменты текста, содержащие информацию по этому вопросу, могут показаться неясными. Однако Гален поднимает очень важный вопрос, связывая эффект «сжатия» с реакцией сосудов: «Чрезмерное сжатие, которое мы определили как третью причину холодных болезней, приводит к заторможенности (κάρος), коме (κῶµα) и апоплексии (ἀποπληξία). Вот что говорит по этому поводу Гиппократ: “Если человек внезапно немеет, это говорит о том, что тело поражено закупоркой сосудов”. Как и другие древние врачи, он называет оба рода кровеносных сосудов венами, что и отличает его от врачей нашего времени, которые обозначают этим термином только сосуды, неспособные пульсировать. Когда артерии у живого существа перекрыты, то они полны крови, так что в них не остается пустого пространства, куда бы они смогли всасывать воздух при расширении. Тем самым внутреннее тепло также закупоривается. Пораженные сосуды быстро становятся неподвижными и нечувствительными по всему телу. Мы также показали это в сочинении “Об использовании пульсов”: артерии пульсируют для поддержания соразмерного количества тепла во всех частях тела живого организма» (фрагмент 3).
В современной клинической практике врачи прекрасно осознают проблему тромбозов и эмболий как ключевую в развитии многих нозологий. Мы понимаем связь между кровотоком, проходимостью сосудов и состоянием тканей, ими питаемых. Взаимосвязь между артериальным тромбозом, с одной стороны, и онемением тканей пораженной конечности – с другой, абсолютно ясна современному хирургу. Ему также ясен патологический механизм, связывающий эти группы явлений и представляющий собой развитие ишемии тканей вследствие нарушения кровоснабжения. Именно на эту взаимосвязь указывает Гален, разумеется, объясняя ее с помощью доступных ему знаний. Не случайно, далее он обращает внимание на связь функции кровоснабжения с функцией дыхания и на значение сердца в регуляции этого процесса. Следствием такого «сжатия», по мнению Галена, становится накопление избытка вредных веществ, препятствующих испарению избыточного тепла. Умножение избыточного тепла приводит к ослаблению или даже подавлению природного тепла в организме и может привести к «охлаждению и омертвению» соответствующей части тела (фрагмент 3).
Разобрав «теплые» и «холодные» болезни, Гален переходит к болезням «сухим» и «влажным» (фрагменты 4 и 5). С точки зрения Галена, ведущим фактором патогенеза является нарушение благосмешения четырех сущностей – влажного, сухого, теплого и холодного. Именно с преобладанием одной из них и связаны причины четырех так называемых простых болезней. Подробно разобрав ранее формы, в которых теплое и холодное становится причинами заболеваний, Гален кратко повторяет эти рассуждения по отношению к сухому и влажному.
Далее Гален переходит к анализу сложных болезней, которые, по его мысли, представляют собой некую сумму простых болезней (фрагмент 6). Естественно, что механизм развития будет настолько же сложнее, насколько увеличится число патогенных факторов, именуемых Галеном «причинами». Сложные болезни, протекающие на уровне органов или организма в целом, невозможно рассматривать вне вопроса смешения жидкостей. В других наших работах мы неоднократно обращали внимание читателя на понимание соразмерного равновесия и смешения (κράσις) как динамическое взаимодействие основных тетрад[209]. Естественно, что влияние сущностей на организм человека осуществляется в том числе и через взаимодействие их с жидкостями. Гален отмечает: «Жидкость всегда будет либо горячей и сухой, либо горячей и влажной, либо холодной и сухой, либо холодной и влажной». Эту мысль Галена следует, конечно же, понимать не в буквальном, физическом, субстанционном смысле, а в отношении конечных свойств, проявляемых той или иной жидкостью, и ее роли в развитии болезни: «…желтая желчь – горячая и сухая по своим свойствам, черная – сухая и холодная, кровь – влажная и горячая, а флегма – холодная и влажная». Гален приводит примеры конкретных заболеваний воспалительного характера (герпес, рожа, гангрена и т. д.), указывая на значение патологического преобладания той или иной жидкости в ее развитии: «некоторые вызываются флегмой, некоторые кровью, некоторые желтой желчью, некоторые черной желчью или соком, не вполне противным природе». Вопрос холодного, теплого, сухого или влажного воздействия одной из четырех основных жидкостей человеческого тела, по мнению Галена, имеет принципиальное значение при развитии соответствующих заболеваний: так, например, рак он однозначно связывает с избытком черной желчи. Суть дела заключается в том, что отсутствие нормального обмена веществ при накоплении их излишка может приводить к развитию процессов гниения. Таким образом, смещение равновесия в тетраде сущностей вследствие патологического воздействия (например, сдавливания) может привести к гниению, которое, в свою очередь, вызовет еще большее ухудшение состояния и потерю телесными жидкостями своих полезных свойств. Таким образом, нарушается благосмешение жидкостей и может развиться ситуация патологического преобладания одной из них, приобретающей болезнетворные свойства. Здесь Гален предлагает некий прообраз замыкания патологического круга, принцип которого лежит в основе современного понимания патофизиологических процессов (фрагмент 6).
Можно сказать, что именно проблема патогенеза болезней занимает Галена в наибольшей степени. Следуя логике названия разбираемого нами трактата – «О причинах болезней», – он, в первую очередь, должен был быть посвящен проблемам этиологии. Однако необходимо понимать ограниченность исследовательских возможностей Галена в этой области. По ходу анализа многих текстов, написанных великим римским врачом, мы обращали внимание читателей на то, сколь точно Гален улавливает суть процессов, протекающих в организме человека. Вместе с тем мы не всегда можем говорить о Галене как о первооткрывателе тех или иных явлений в силу отсутствия в его работах научных, экспериментальных доказательств и обоснований. Порой речь может идти о гениальном прови́дении, основанном на потрясающей клинической интуиции и опыте врача, вооруженного рациональной натурфилософской системой, наиболее адекватной по отношению к решаемой им задаче (конечно, для своего времени). Ярким примером является концепция гомеомерий, которую, по ее роли в системе Галена, мы считаем возможным сравнивать со значением клеточной теории в современной медицине. Эта оценка, конечно, является нашим собственным субъективным взглядом, который мы никоим образом не навязываем читателю. При этом как в вопросе о гомеомериях, так и в случае с разбираемым нами в настоящий момент текстом мы понимаем, что идеи Галена при отсутствии их экспериментального подтверждения носят умозрительный характер. Однако обратим внимание на тот факт, что его клинические наблюдения, как правило, безупречно обоснованы эмпирически и подтверждаются логикой. Происходит это только тогда, когда в начале логической цепочки стоят факты, объективно наблюдаемые у постели больного. Именно по этой причине вопросы этиологии и патогенеза обсуждаются им в трактате «О причинах болезней» в совокупности. Так, например, развитие заболеваний, в основе которых лежит накопление болезнетворных излишков жидкости[210], невозможно понять вне логичных и практически полезных представлений о физиологических возможностях организма избавляться от таких излишков: «Это говорилось и многими прежними врачами, но еще никто не описывал, каким образом происходит извержение [лишнего]. Мы припишем природе [несуществующие] способность рассуждать и разум, если просто скажем, что она переводит из своих частей в чужие все, что есть в ней дурного. Однако мы ясно понимаем, что разрешение болезней происходит именно по этой причине. Однако мои предшественники не объяснили, каким именно образом это происходит, так как не могли разъяснить природных способностей, о которых мы уже говорили в других сочинениях» (фрагмент 6).
Гален предлагает идею «более сильных» и «более слабых» частей тела – об этом подробно говорится в трактате «Искусство медицины». Именно через эти понятия он увязывает субъективность реактивности человеческого организма с вопросом динамического изменения тетрад. Из «более сильных» частей тела излишки выводятся быстрее и легче, из «более слабых» – медленнее и тяжелее: «Существуют четыре способности, которыми обладает каждая часть тела, как человека и животного, так и растения: привлечение подобного, удержание, изменение и выделение избыточного, которое носит двойственный характер – избыток бывает количественный и качественный. Кроме того, поскольку части тела неравны по своей силе, но более важные части изначально самой природой созданы более сильными, то вполне естественно, что вредные и избыточные вещества, находящиеся в теле, стремятся к менее важным частям. Тем самым избыток [веществ] выводится из более сильных частей тела и, будучи неспособным нигде остановиться, доходит до самых слабых частей» (фрагмент 6). Понятие «более сильный» и «более слабый» не следует трактовать в плане жизненной важности той или иной части тела. Их надо понимать именно в контексте современного представления об индивидуальной реактивности. В лексиконе современных врачей со времен Галена сохраняется понятие «locus minoris resistentiae» – «слабое место в сопротивляемости» у пациента. Так, например, разные пациенты на один и тот же психоэмоциональный раздражитель могут по-своему реагировать возникновением острых или обострением хронических заболеваний: у одного на фоне стресса болит сердце, у другого – обостряется язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Это, естественно, не означает различную значимость сердечно-сосудистой или пищеварительной систем. Гален понимает проблему именно так: «Болезнь возникает, когда происходит некое внешнее воздействие на живой организм либо из-за неправильного образа жизни в нем возникает чрезмерный избыток веществ. Если возникает такое состояние, а естественным образом предназначенные для этого части тела не справляются с выведением большого количества излишков, то в этом случае течение крови или жидкости направлено от более сильных к более слабым частям» (фрагмент 6).
К первой группе причин, вызывающих болезни сложных частей тела, Гален относит изменение их природной формы или структуры. Речь идет об излишней гладкости или шероховатости, различных искривлениях и деформациях, а также нарушении проходимости каналов, по которым внутри этих частей тела циркулируют жидкости. Эти причины, прежде всего, могут развиваться внутриутробно и вследствие неправильного ухода за детьми. Именно описание ортопедических расстройств, вызванных неправильным пеленанием, одеванием и двигательной активностью ребенка, занимает значительную часть седьмого фрагмента данного трактата. Подобные же дефекты формы частей тела могут возникать и у взрослых вследствие врачебных ошибок при лечении переломов и травм. Такие дефекты могут иметь и объективный характер, как результат болезней, например, когда часть тела склоняется в одну сторону. Гален отмечает: «…у тех, кто парализован с одной стороны, тело стянуто вовлеченными в болезненное состояние мышцами. То же самое наблюдается во время односторонних судорог как следствия конвульсий. И воспаления, и отвердения, и жесткие рубцы, и все подобные поражения втягивают в себя [ту ткань], которая примыкает к ним, и тем самым искажают [пораженную] часть тела. Кроме того, в местах, где удалены нервы и сухожилия или они парализованы, состояние натянутых и находящихся в противоестественном положении сухожилий приводит к тому, что вся эта часть тела стягивается к ним…» (фрагмент 7).
Гален справедливо полагает, что подобные процессы могут развиваться и внутри человеческого организма, протекая скрыто и проявляясь уже симптомами болезней: «Но и внутренние полости частей тела подвергаются поражению, причиной которого могут служить сращение, сужение, какое-либо препятствие, сжатие, паралич или [противоестественный] анастомоз. Это происходит, когда внутренняя поверхность самой полости покрывается язвами, а затем пораженные язвами части соединяются друг с другом, что приводит к разрушению природного устройства». Гален довольно точно описывает происходящее внутри тела, когда патологические процессы, проистекающие в организме, приводят к накоплению жидкостей в полостях и каналах. Застой этой жидкости, ее гниение, естественно, вызывают развитие болезней (фрагмент 7).
Второй причиной заболеваний сложных органов, по мнению Галена, являются процессы, при которых «разрушается одна из [частей тела], соответствующая природе, или имеет место отрезание, выжигание, гниение или сильное переохлаждение». Их следствием может стать состояние, когда в частях тела появляется «нечто лишнее». Имеются в виду состояния, которые современные врачи называют «плюс-процессы». Они часто представляют собой следствия или осложнения развития других заболеваний, подобно тому как, по логике Галена, вторичные болезни развиваются из первичных. В качестве примера мы могли бы привести кисты и липомы, появляющиеся в результате закупорки и воспаления желез, чрезмерные разрастания грануляционной ткани при заживлении ран, ложные суставы, развитие которых сопровождается значительной деформацией и нарушением функции конечности и т. п. (фрагменты 8 и 9). Вариантом подобных изменений становятся болезни, связанные с «нарушением положения частей тела». Гален обращает внимание на тот факт, что в определенных случаях они могут протекать «быстро и стремительно». Когда мы понимаем, о каких именно болезнях рассуждает Гален, то, конечно, соглашаемся с ним. Смещения и ущемления кишечных грыж, смещения суставов вследствие разрушения позвоночных дисков – все эти (и им подобные) заболевания являются, с одной стороны, следствием длительно развивающихся процессов, а с другой – результатом, возникающим стремительно. Используя язык современной хирургии, мы можем сказать, что один из примеров, приведенный Галеном, – это острое осложнение хронической грыжи. Обратим внимание, что автору хорошо известна не только пупочная, но и паховая грыжа: «При кишечных грыжах и так называемых грыжах сальника канал, ведущий от брюшины к семенникам, всегда расширяется, а иногда и разрывается, в результате чего сальник или какая-то часть кишечника оседает (букв.: соскальзывает. – Примеч. пер.) в этот канал или в чресла» (фрагмент 10).
Завершается трактат «О причинах болезней», как и «О разновидностях болезней», рассуждениями о различных заболеваниях, поражающих и простые, и сложные части тела. Особое внимание уделяется такому виду заболеваний, как «разрушение единства». Действительно, рана, травматическое повреждение в виде разрыва или размозжения и т. п. может наблюдаться и у мышц, и у сосудов, и у сколь угодно сложных внутренних органов. Проблема этиологии и патогенеза в системе Галена лишь обозначается в виде логичной, но довольно условной связи, повторяя, по сути, существующую классификацию разновидностей болезней.
ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑΣ[211]
1. Τίνα µέν ἐστι καὶ πόσα τὰ σύµπαντα νοσήµατα κατ’ εἴδη τε καὶ γένη διαιρουµένοις, ἁπλᾶ τε καὶ σύνθετα, ὁπόσαι τε καθ’ ἕκαστον αὐτῶν αἰτίαι τῆς γενέσεως, ἐν ἑτέροις ὑποµνήµασι γέγραπται. λοιπὸν δ’ ἂν εἴη περὶ τῶν συµπτωµάτων διελθεῖν, ἵν’ ᾖ τέλειος ὁ περὶ πασῶν τῶν παρὰ φύσιν διαθέσεων λόγος. ἅπασα γὰρ οὖν διάθεσις σώµατος ἐξισταµένη τοῦ κατὰ φύσιν ἤτοι νόσηµά ἐστιν, ἢ αἰτία νοσήµατος, ἢ σύµπτωµα νοσήµατος. ὅπερ ἔνιοι τῶν ἰατρῶν ἐπιγέννηµα καλοῦσιν. ἀλλὰ τοῦτο µὲν οὐ πάνυ τι σύνηθές ἐστι τοῖς ῞Ελλησι τοὔνοµα, σύµπτωµα δὲ καὶ πάθηµα καὶ πάθος ὀνοµάζουσι συνήθως ἅπαντα τὰ τοιαῦτα. σηµαίνεται µὴν οὐ πάντῃ ταυτὸν ἐκ τῶν ὀνοµάτων, ἀλλ’ ὡς ἐγὼ νῦν διαιρήσω περὶ πάντων ἑξῆς τῶν παρακειµένων ἀλλήλοις κατὰ τόνδε τὸν τρόπον ἐπεξιών. ἡ µὲν δὴ νόσος εἴρηται, κατασκευή τις οὖσα παρὰ φύσιν, ὑφ’ ἧς ἐνέργεια βλάπτεται πρώτως. δῆλον δὲ ὡς εἰ καὶ διάθεσίν τινα εἴποιµεν παρὰ φύσιν, ὑφ’ ἧς ἐνέργεια βλάπτεται, ταὐτὸν ἐροῦµεν. ἕκαστον γὰρ τῶν ὄντων διάκειται πως, εἴθ’ ὑγιεινὸν, ἄν τε νοσῶδες, ἄν τε µηδέτερον ὑπάρχῃ. παρὰ δὲ τὸ διακεῖσθαί πως τὸ τῆς διαθέσεως ὄνοµα γέγονεν, εἰς ταύτην ἠγµένον τὴν χρῆσιν οὐχ ὑπὸ τῶν φιλοσόφων µόνων τῶν παλαιῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ῾Ελλήνων. ἡ µὲν οὖν διάθεσις κοινὸν ἁπάντων, ὑγιαινόντων καὶ νοσούντων καὶ οὐδετέρως ἐχόντων. καὶ γὰρ καὶ µέλους καὶ ἁρµονίας καὶ λόγου καὶ λέξεως διάθεσις εἴρηται παρὰ τοῖς ῞Ελλησιν. ἡ νόσος δὲ τὸ ἐναντίον τῇ ὑγείᾳ. διαφέρει δ’ ἀµφοῖν τὸ πάθος τε καὶ πάθηµα προσαγορευόµενον, ὥσπερ δὴ καὶ Πλάτων αὐτὸς διοριζόµενος ἔλεγε·πᾶν γὰρ ὅ τι περ ἂν πάσχῃ τις πάθος προσρητέον. ὅθεν, οἶµαι, καὶ τὰς τῶν αἰσθήσεων ἀλλοιώσεις παθήµατα προσαγορεύει, κατὰ µὲν τὴν ὄψιν τὰς ἀπὸ λευκοῦ καὶ µέλανος καὶ ξανθοῦ καὶ τῶν ἄλλων χρωµάτων, κατὰ δὲ τὴν ἁφὴν τὰς ἀπὸ θερµοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ σκληροῦ καὶ µαλακοῦ καὶ τῶν τοιούτων ἁπάντων. οὕτω δὲ καὶ καθ’ ἑκάστην τῶν ἄλλων αἰσθήσεων. ὀνοµάζει δὲ καὶ τὴν ἡδονὴν πάθηµα, καὶ ὅλως ἅπασαν κίνησιν ἡντιναοῦν τὴν ὑφ’ ἑτέρου γινοµένην ἐν ἑτέρῳ. ἡ µὲν γὰρ τοῦ ποιοῦντος κίνησις ἐνέργεια, πάθηµα δὲ καὶ πάθος ἡ τοῦ διατιθεµένου πως ὑπ’ αὐτοῦ. καὶ γὰρ καθόλου τὸ διατίθεσθαί πως ταυτὸν τῷ πάσχειν ἐστί. καὶ διήνεγκε τῆς διαθέσεως τὸ πάθηµα κινήσει· παυσαµένου γὰρ τοῦ ἀλλοιοῦντος, ἡ περὶ τὸ παθὸν ἀλλοίωσις ὑποµένουσα, διάθεσίς ἐστι τοῦ παθόντος. ὥστε ἐν αὐτῷ µὲν τῷ τρέπεσθαι καὶ µεταβάλλεσθαι καὶ ἀλλοιοῦσθαι καὶ κινεῖσθαι τὸ πάθος ἔχει τὴν γένεσιν, ἐν δὲ τῷ µένοντι καὶ σωζοµένῳ περὶ τὸ ὑποκείµενον σῶµα τὴν διάθεσιν. ἤδη δὲ µένουσαν διάθεσιν οἱ ῞Ελληνες ὀνοµάζουσι πάθος, ὥσπερ καὶ τὸ πεποιηκὸς, οὐκ ἔτι δὲ τὸ ποιοῦν, αἴτιον. καί τοί γε οὐδὲ τοῦτο ἁπλῶς αἴτιον οὔθ’ ἡ µένουσα διάθεσις ἁπλῶς ἐστι πάθος, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ κατά γε τὸν ἀκριβῆ λόγον γεγονὸς µὲν πάθος ἐστὶν, ὂν δὲ οὐκέτι. ὅτι δ’ οὕτως σύνηθες ὀνοµάζειν τοῖς ῞Ελλησιν ἐν τῇ τῶν ἰατρικῶν ὀνοµάτων πραγµατείᾳ δέδεικται. καὶ χρὴ µεµνηµένους ὅπερ ἀεὶ λέγεται πρὸς ἡµῶν ὑπὲρ µὲν τῶν ὀνοµάτων ὅτι τάχιστα συντίθεσθαι πρὸς ἀλλήλους, ἐπὶ δὲ τὰ πράγµατα σπεύδειν αὐτὰ, καὶ διατρίβειν τε καὶ χρονίζειν ἐν ἐκείνοις. ἀλλ’ οἱ πλεῖστοι τῶν πεπαιδεῦσθαι φασκόντων ἔµπαλιν δρῶσιν, ἅπαντα κατατρίβοντες τὸν ἑαυτῶν βίον εἰς τὴν περὶ τῶν ὀνοµάτων ἔριν, ὡς µηδέποτε δυνηθῆναι τοῦ τέλους τῆς τέχνης ἐφικέσθαι. τί δὴ οὖν χρὴ ποιεῖν τὸν ἀληθείας ἐραστήν; ἐπιδεικνύναι τὰ παραπλήσια ταῖς ἀλλήλων φύσεσι πράγµατα, καὶ διὰ τοῦτο παρορώµενα, κᾄπειτα τίθεσθαι κατὰ τούτων τὰ ὀνόµατα, µάλιστα µὲν, εἰ οἷός τε εἴη, τὰ συνηθέστατα τοῖς ῞Ελλησιν·εἰ δ’ ἀγνοοίη ταῦτα, ποιεῖν ἴδια, πρὸ πάντων δὲ καθ’ ἑκάστου πράγµατος ἓν ὄνοµα, ἵνα µήτε παρὰ τὴν ὁµωνυµίαν ἀσάφειά τις γένηται καὶ σοφίσµατα συνίστηται κατὰ τὸν λόγον, µήτε παραλείπηταί τι πρᾶγµα· τὸ δ’ εἴτ’ ὀρθῶς, εἴτε οὐκ ὀρθῶς, εἴτε κυρίως, εἴτ’ ἀκύρως κεῖται τοὔνοµα, κατὰ πολλὴν ἐπισκέπτεσθαι σχολὴν, ὅταν ἤδη τὰ πράγµατα µεµαθηκότες ὑπάρχωµεν. ἐν γὰρ τῇ τούτων γνώσει τὸ κατορθοῦν ἐστιν, οὐκ ἐν τοῖς ὀνόµασιν. ἡµεῖς µὲν οὖν, ὡς ἔφην, τὰ συνήθη τε τοῖς ῞Ελλησιν ὀνόµατα τιθέµεθα καὶ τὰ παρακείµενα ἀλλήλοις πράγµατα διοριζόµεθα, τοῖς δ’ ἄλλοις ὀνοµάζειν µὲν ὡς ἂν ἐθέλωσι συγχωροῦµεν, ἀδιόριστον δέ τι πρᾶγµα παραλιπεῖν οὐ συγχωροῦµεν. ἐν αὐτοῖς γοῦν τούτοις τοῖς νῦν προκειµένοις ἡµῖν, ἐπειδὴ τὸ µὲν ἐν τῷ τρέπεσθαι καὶ µεταβάλλεσθαι τὸ σῶµα καὶ ὁπωσοῦν ἀλλοιοῦσθαι γινόµενον ἕτερόν ἐστι τοῦ γεγονότος ἤδη καὶ µένοντος, αὐτοῦ δὲ τοῦ γεγονότος τὸ µὲν ἐνεργείας τῆς κατὰ φύσιν ἐστὶ ποιητικὸν, τὸ δὲ βλαπτικὸν, τὸ µὲν ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι κεκτηµένον ἐνέργειαν ἢ πάθος ὠνοµάσαµεν, τὸ δ’ ἐν τῷ διαµένειν ἐπί τινα χρόνον ὑγείαν ἢ νόσον. ἐνεργείας δὲ διώρισται πάθος, ὡς ποιοῦν ποιουµένου καὶ νόσος ὑγείας, ὡς τὸ µὲν παρὰ φύσιν ὂν, τὸ δὲ κατὰ φύσιν. αὖθις οὖν αὐτῶν εἰπόντες ὅλους τοὺς λόγους, ἐχώµεθα τῶν ἐφεξῆς. ὑγεία µὲν οὖν ἐστι διάθεσις κατὰ φύσιν ἐνεργείας ποιητική. διαφέρει δ’ οὐδὲν, ὡς ἔφαµεν, εἴτε κατασκευὴν, ἢ διάθεσιν εἴποιµεν, εἴτε ποιητικὴν ἐνεργείας, εἴτ’ αἰτίαν ἐνεργείας. ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ τὸ κατὰ φύσιν ἀφέλοιµεν, οὐδὲν διοίσει. συσσηµαίνεται γὰρ ἐν τῷ λοιπῷ λόγῳ. οὕτω δὲ καὶ νόσος, ἡ παρὰ φύσιν κατασκευὴ τοῦ σώµατος, καὶ αἰτία τοῦ βεβλάφθαι τὴν ἐνέργειαν. ἢ συντοµώτερον οὕτως, νόσος ἐστὶ διάθεσις παρὰ φύσιν, ἐνεργείας ἐµποδιστική. πάθος δ’ ἐστὶν ἡ περὶ τὴν ὕλην ἀπὸ τοῦ δρῶντος κίνησις. αὕτη δὲ ἡ τοῦ δρῶντος κίνησις ἐνέργεια. τὸ δ’ ἐκ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως εἰσφερόµενόν τινα τῷ γινοµένῳ µοῖραν τῆς γενέσεως αἴτιον αὐτοῦ λέγεται. πλείω δ’ ἐστὶ ταῦτα κατὰ γένος· ἥ τε γὰρ ὕλη καὶ ἡ χρεία καὶ ὁ σκοπὸς καὶ τὸ ὄργανον καὶ τὸ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως. ἀρχὴ τῆς κινήσεως. ἕκαστον γὰρ τούτων εἰσφέρεταί τινα τῷ γενοµένῳ συντέλειαν· τὰ δ’ οὐδὲν µὲν εἰσφερόµενα, µὴ χωριζόµενα δὲ τῶν εἰσφεροµένων, τὸν ὧν οὐκ ἄνευ λόγον ἐπέχει. τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐνδέχεταί τινα στίχον αἰτιῶν γενέσθαι πολλάκις ἀλλήλας διαδεχοµένων, ὡς εἰ καὶ ψηφίδων ἐφεξῆς ἀλλήλαις κειµένων πλειόνων κινήσειέ τις τὴν πρώτην, αὕτη δὲ τὴν δευτέραν, κᾀκείνη τὴν τρίτην, καὶ οὕτω κατὰ τὸ ἑξῆς ἑκάστη τὴν µεθ’ ἑαυτήν. ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις ἅπασιν, εἰ µή τις διορίζοιτο τοῦ κατὰ συµβεβηκὸς ποιεῖν λεγοµένου τὸ καθ’ ἑαυτὸ, πάµπολλά τε καὶ ἀτοπώτατα συµπεσεῖται τοῖς λόγοις ἁµαρτήµατα. σηµαίνει δὲ ταυτὸν τὸ µὲν καθ’ ἑαυτὸ τῷ πρώτως, κ¿ν εἴ τινες τῶν ἀττικιζόντων φυλάττοιντο τοὔνοµα, τὸ δὲ κατὰ συµβεβηκὸς τῷ δευτέρως. ὁ µὲν οὖν τὸν δάκτυλον προσενεγκὼν τῇ πρώτῃ ψηφῖδι πρώτως µὲν ταύτην ἐκίνησε, κατὰ συµβεβηκὸς δὲ καὶ δευτέρως τὴν ἐφεξῆς αὐτῇ, καὶ οὕτως ἤδη καὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας. οὕτως δὲ καὶ ἡ πρώτη καθ’ ἑαυτὴν µὲν τὴν δευτέραν, κατὰ συµβεβηκὸς δὲ τὴν τρίτην καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐφεξῆς. καὶ ἡ δευτέρα δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον πρώτως µὲν τὴν τρίτην, δευτέρως δὲ τὴν τετάρτην καὶ τὴν πέµπτην καὶ τὰς ἐφεξῆς. εἰ δὲ ἀκριβέστερον ἔτι διαιρεῖσθαι βούλοιο, πρὸς γὰρ τὴν τῶν πραγµάτων ἀκρίβειαν οὕτω χρησιµώτερον, ἑκάστη τῶν ψηφίδων πρώτως µὲν κινεῖ τὴν ἐφεξῆς, δευτέρως δὲ τὴν µετ’ ἐκείνην, καὶ τρίτως τὴν ἔτι µετ’ ἐκείνην, καὶ τετάρτως τὴν ἐφεξῆς αὐτῇ. τούτων οὕτως ἐχόντων καὶ διωρισµένων, ἐπειδὴ τὸ νόσηµα διάθεσίς τις ἦν παρὰ φύσιν τὴν ἐνέργειαν βλάπτουσα, τῆς νόσου δ’ αὐτῆς ἐνδέχεταί τινα προηγεῖσθαι διάθεσιν ἑτέραν, παρὰ φύσιν µὲν καὶ ταύτην, οὐ µὴν κατά γε τὸν ἑαυτῆς λόγον βλάπτουσαν τὴν ἐνέργειαν, ἀλλὰ διὰ µέσου τοῦ νοσήµατος, τὴν τοιαύτην διάθεσιν οὐ νόσηµα καλέσοµεν, ἀλλ’ αἰτίαν προηγουµένην νοσήµατος, ἀκριβῶς τε τὸν νοῦν ἐνταῦθα προσέξοµεν τοῖς κᾀκείνην τὴν διάθεσιν αἰτίαν εἶναι φάσκουσι τοῦ βλάπτεσθαι τὴν ἐνέργειαν. οὐδὲ γὰρ καθ’ ἑαυτὴν, οὐδὲ πρώτως, ἀλλὰ κατὰ συµβεβηκός τε καὶ δευτέρως ἐµποδίζεσθαί τε καὶ βλάπτεσθαι δι’ αὐτὴν ἐροῦµεν τὴν ἐνέργειαν, ὑπὸ δὲ τοῦ νοσήµατος αὐτοῦ πρώτως τε καὶ κατὰ τὸν ἑαυτοῦ λόγον. ὅθεν κᾀν τῷ λέγειν διάθεσιν σώµατος ἐµποδιστικὴν ἐνεργείας εἶναι τὸ νόσηµα τοῖς µὲν εὐθὺς ὑπακούουσιν, ὅτι πρώτως τε καὶ καθ’ ἑαυτὴν, αὐτάρκης ὁ λόγος· ὅσοι δ’ ἂν ἤτοι σκαιότερον, ἢ ἐριστικώτερον ἀκούωσι, προσθετέον αὐτοῖς καὶ τὸ πρώτως, ἵν’ ᾖ τοιοῦτος ὁ λόγος· νόσηµά ἐστι διάθεσις σώµατος ἐνεργείας τινὸς ἐµποδιστικὴ πρώτως. ὅσαι τοίνυν αὐτῆς προηγοῦνται διαθέσεις, οὔπω νοσήµατα. κ¿ν εἰ συµπίπτοιεν δέ τινες αὐταῖς ἕτεραι διαθέσεις οἷον σκιαί τινες παρακολουθοῦσαι, καὶ ταύτας οὐ νοσήµατα καλέσοµεν, ἀλλὰ συµπτώµατα. καὶ ἡµῖν οὕτως οὐ πᾶν ὅ τι περ ἂν ᾖ παρὰ φύσιν ἐν τῷ σώµατι, νόσηµα εὐθὺς ἔσται κλητέον, ἀλλὰ τὸ πρώτως µὲν βλάπτον τὴν ἐνέργειαν, νόσηµα, τὸ δὲ τούτου προηγούµενον, αἴτιον µὲν νοσήµατος, οὔπω δὲ νόσηµα. εἰ δ’ ἕποιτό τις ἄλλη τῷ νοσήµατι περὶ τὸ σῶµα διάθεσις, αὕτη σύµπτωµα ὀνοµασθήσεται. καὶ µὴν καὶ ἡ τῆς ἐνεργείας αὐτῆς βλάβη σύµπτωµά ἐστι τοῦ ζώου. πᾶν γὰρ ὅ τι περ ἂν παρὰ φύσιν συµβαίνῃ τῷ ζώῳ, σύµπτωµά ἐστι. παρὰ µὲν δὴ τοῖς ῞Ελλησιν ἡ τῶν ὀνοµάτων χρῆσις οὕτως ἔχει. µετατιθέναι δ’ ἔξεστι τῷ βουλοµένῳ, µενόντων, ὥσπερ εἴρηται, τῶν πραγµάτων, οἷον εὐθὺς εἰ µὴ βούλοιτο σύµπτωµα καλεῖν, ἀλλ’ ἐπιγέννηµα. σύµπτωµα µὲν γὰρ εἶναι πᾶν ὅπερ ἂν συµβεβήκῃ τῷ ζώῳ παρὰ φύσιν, ἐπιγέννηµα δὲ οὐ πᾶν, ἀλλὰ τὸ µόνοις τοῖς νοσήµασιν ἐξ ἀνάγκης ἑπόµενον. ἀλλ’ ἡµεῖς γ’, ὡς ἔφην, ἅπασαν µὲν ἀλλοίωσιν ἔτι γινοµένην πάθος εἶναι, ἅπαντα δὲ τὰ παρὰ φύσιν ὑπάρχοντα τοῖς σώµασιν ὀνοµάσοµεν συµπτώµατα. καὶ συµβήσεται ταυτὸν ἐνίοτε πρᾶγµα καὶ πάθος ὀνοµάζε-σθαι καὶ σύµπτωµα, τῶν σηµαινοµένων ἑκατέρων ὑπαρχόντων αὐτῷ κατ’ ἄλλον καὶ ἄλλον λόγον. οἷον αὐτίκα τὸ τρέµειν πάσχειν ἐστὶν, ὅτι καὶ ἀλλοιοῦσθαι καὶ κινεῖσθαι µὴ κατὰ τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν συµβαίνει, καὶ πάθηµά τε καὶ πάθος ὁ τρόµος, ὅτι καὶ ἀλλοίωσις ἡ τοιαύτη κίνησις· ἀλλὰ καὶ σύµπτωµα· παρὰ φύσιν γὰρ ἡ κίνησις. εἰ δέ γε ἀλλοίωσις ᾖ µόνον, ὥσπερ ἐν τῷ βλέπειν τε καὶ ἀκούειν καὶ ὀσφραίνεσθαι καὶ γεύεσθαι καὶ ἅπτεσθαι γίνοιτο, πάθος ἂν ὀνοµαζέσθω µόνον, οὐκέτι δὲ σύµπτωµα. τὸ γάρ τοι τοῦ συµπτώµατος ἴδιον αὐτὸ τοῦτ’ ἔστι, τὸ παρὰ φύσιν. ὅθεν κᾀν ταῖς διαφοραῖς ἁπάσαις τοῦ κατὰ φύσιν ἐξαλλαττοµέναις συνίσταται. καὶ γὰρ σχηµάτων τῶν κατὰ φύσιν, καὶ χρωµάτων, καὶ µεγεθῶν, ἐνεργηµάτων τε καὶ παθηµάτων διαφθειροµένων γίνεται. καὶ οὗτός ἐστιν ἰδιαίτατος αὐτοῦ λόγος, ἐξάλλαξις τοῦ κατὰ φύσιν. τί δέ; οὐχὶ καὶ ἡ νόσος ἐξάλλαξις τοῦ κατὰ φύσιν; ἢ οὐχ ἁπλῶς ἐξάλλαξις, ἀλλ’ ἐξάλλαξίς τις, ἁπλῶς δὲ ἐξάλλαξις τὸ σύµπτωµα; τοῦ γὰρ ἐν ταῖς διαθέσεσι κατὰ φύσιν ἐξαλλαττοµένου καὶ βλάπτοντος τὴν ἐνέργειαν ἡ νόσος γίνεται, καὶ δυοῖν τούτοιν ἐξ ἀνάγκης ἐδεῖτο πρὸς τὸ νόσος ὑπάρχειν, ἐν γένει µὲν εἶναι τῆς διαθέσεως, βλάπτειν δὲ τὴν ἐνέργειαν, ὧν οὐδέτερον ἀνάγκη παρεῖναι τῷ συµπτώµατι. καὶ γὰρ εἰ µὴ διάθεσις εἴη, καὶ εἰ µὴ βλάπτοι γέ τινα ἐνέργειαν, ἀλλὰ αὐτῷ γε µόνῳ τῷ παρὰ φύσιν ἱκανῶς ὁρισθήσεται. νοσήµατος µὲν δὴ ταύτῃ διήνεγκε, παθήµατος δὲ τῷ τὸ µὲν ἐν κινήσει πάντως εἶναι τὸ πάθηµα καὶ κατὰ φύσιν ἐνίοτε, τὸ σύµπτωµα δὲ οὐκ ἐν κινήσει µόνον, ἀλλὰ καὶ καθ’ ἕξιν τινὰ, καὶ πάντως παρὰ φύσιν. ἔσται δὴ πάθος µὲν ἡ περὶ τὴν ὕλην ἀλλοίωσις ἢ κίνησις ἔτι γινοµένη, ἡ δ’ ὑποµένουσα, διάθεσις, σύµπτωµα δὲ, πᾶν ὅ τι περ ἂν συµπίπτῃ τῷ ζώῳ παρὰ φύσιν. ὥστε καὶ ἡ νόσος ὑπὸ τὴν τοῦ γενικοῦ συµπτώµατος ἀναχθήσεται προσηγορίαν. ἔστι γάρ πως καὶ αὕτη σύµπτωµα. καὶ µὲν δὴ καὶ τὰ προηγούµενα τῶν νόσων αἴτια τὰ κατ’ αὐτὸ τὸ σῶµα τοῦ ζώου συνιστάµενα τῇ τοῦ γενικοῦ συµπτώµατος ὑποπέπτωκεν ἐννοίᾳ.



