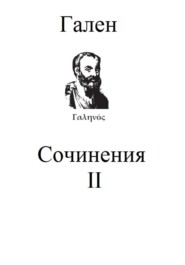 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Сочинения. Том 2
Обратим внимание на то, что Гален справедливо указывает на необходимость безотлагательно начинать лечение воспалительного заболевания и опасность ошибки, допущенной в начальной стадии лечения. Гален указывает, что в этом случае «самые большие ошибки – две: совершенно не заботиться обо всем организме и еще больше нагревать и увлажнять страдающую часть тела». Идея Галена заключается в том, чтобы провести детоксикацию организма с помощью опорожнительных средств и начать непосредственное лечение воспаленной части тела с целью отведения от нее притекших патологических соков. Здесь вновь мы встречаемся с врачебной логикой, основанной на принципах индивидуального подхода и лечения противоположного противоположным: «Например, представим себе состояние, при котором течение соков привлекло их в колено, и оттуда надо сделать обильное их удаление. Предположим, ты видишь, что тело больного полно крови, сил у него много, время года – весна, местность имеет хороший климат, больной – подросток или юноша. Тогда необходимо сделать кровопускание из верхней части и для этого рассечь вены в районе локтя: либо внутреннюю, либо среднюю. Если же пострадавшая часть находится в верхней части тела, то кровь надо отвести вниз. И всегда полезно направить течение крови в противоположном направлении. Приложить же нужно состав из живучки и кожуры граната, вываренных в вине, сумаха и перловой крупы. Этот состав – наилучший при таких состояниях: он может произвести нужное воздействие» (II, 2).
В случае если врач сталкивается с образованием гнойных очагов, осложняющих воспалительное заболевание, не надо медлить с выполнением хирургического вмешательства: «Если же необходимо сделать надрезы, то и этого не следует бояться» (II, 3) Вместе с тем Гален предостерегает от опасности, которую таит преждевременное хирургическое вмешательство, выполненное не по показаниям. До тех пор пока это возможно, надо стараться придерживаться консервативной терапии, применяя в качестве местного лечения примочки и компрессы, а в качестве общего – клизмы.
Далее Гален переходит к очень важному с практической точки зрения вопросу – особенностям лечения в зависимости от поражения разных частей тела. По его мнению, существует четыре фактора, которые следует учитывать при решении этого вопроса: «характер смешения жидкостей в частях тела, структура, положение и функции этих частей». Смешение жидкостей определяется известными нам по другим трактатам Галена сущностными характеристиками таких смешений – сухой, влажный, холодный, горячий. Все это в сочетании со знанием анатомического устройства конкретной части тела позволит выбирать подсушивающую или увлажняющую терапию. Любопытно, как Гален оценивает вопросы положения частей тела: «Факторами же, связанными с положением части тела, также не следует пренебрегать. Ведь именно они более всего указывают на то, через что, каким образом и куда следует производить опорожнение. Отведение же, как это называет Гиппократ, уже притекших соков, если часть тела уже захвачена притоком соков, есть лечение дренированием. И тот, и другой вид опорожнения следует производить через общие сосуды. Например, отведение соков от матки можно произвести, если рассечешь локтевую вену, или поставишь банку возле соска, или разогреешь руки посредством массажа и перевязывания» (II, 4).
Не случайно, что сразу после этого Гален разбирает показания к венотомии. Ранее мы подробно анализировали этот вопрос применительно к апоплексии, когда основным клиническим показанием к кровопусканию становилась необходимость срочно снизить избыточное давление крови на головной мозг. При воспалительных заболеваниях показанием к венотомии становится необходимость экстренного отведения избыточного объема жидкости от страдающей части тела. Не следует забывать, что, по мнению Галена, кровь является одной из жидкостей, скапливающейся в избыточном количестве в заболевшем месте. Главная рекомендация Галена касается внимательного подхода к производству кровопускания через соответствующие регионарные вены. Например, если воспалительным процессом поражена верхняя часть тела, а первичным источником является ангина или воспаление глаз, то кровопускание следует производить из вен верхних конечностей. С современных позиций мы понимаем, что в данном случае речь идет уже о развитии опасных осложнений и генерализации процесса. При таких обстоятельствах кровопускание является отчаянной мерой и прогноз, скорее всего, будет неблагоприятным. Однако если та же ангина протекает тяжело, но «все тело не наполнено соками» (т. е. речь идет не о генерализации процесса, а о затяжном течении основного заболевания), то рекомендация Галена «рассечь вену под языком» может способствовать выздоровлению пациента (II, 4).
В начале разбираемого нами трактата Гален, формулируя общие принципы врачебной тактики, наряду со своевременностью врачебного вмешательства, упомянул о важности контроля за тем, чтобы используемое лечебное средство доставлялось к заболевшей части тела в достаточном количестве. Гален прекрасно понимал разницу между ситуациями, когда препарат, наносимый на кожный покров, призван повлиять на поверхностный патологический процесс и оказать воздействие на внутренние органы (II, 4). Он осознавал глубокую взаимосвязь обменных процессов, происходящих в разных частях тела, особенно когда речь идет о пероральном приеме лекарства. В современной клинической практике уделяется много внимания расчетам оптимальных доз препаратов, назначаемых врачом, в зависимости от тяжести болезни и ее локализации. Во второй половине XX в. среди терапевтических специальностей выделилась отдельная дисциплина – клиническая фармакология. Ее задача, по сути, носит междисциплинарный характер: в отличие от собственно фармакологии – общей науки о лекарствах, она изучает превращение препаратов в организме человека и их взаимодействие между собой. Известно, что разные версии лекарственных средств, произведенные на основе одной и той же фармакологической формулы, ведут себя в организме по-разному: даже простой аспирин, выпущенный разными производителями и в силу этого имеющий разные дополнительные добавки, по-разному всасывается в желудке и кишечнике. Очевидно, что при пероральном приеме лекарственного средства не весь его объем поступает в кровь и тем более доходит до заболевшего органа. Часть препарата метаболизируется под влиянием пищеварительных ферментов и желудочного сока. Общеизвестным является и эффект побочного действия препаратов, когда прием того же аспирина в целях профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний может вызвать обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Приводимые нами примеры являются предельно простыми. Конечно, в начале XXI в. клиническая фармакология решает более сложные задачи. Однако описание подобных клинических ситуаций помогает понять, насколько плодотворными были те или иные взгляды Галена, который, ничего не зная о сущности биохимических процессов, происходящих в организме, интуитивно очень многое понимал правильно. Судите сами: «Ведь необходимо учитывать, через сколько органов пройдет лекарство перед тем, как попасть в легкие. Сначала оно попадает в рот, потом – в гортань, устье желудка, желудок и тонкий кишечник, потом – в сосуды брыжейки, оттуда – в изгибы печени, затем – в полую вену, оттуда – в сердце, а оттуда таким же образом – в легкие. И невозможно сказать, что в каждой из этих частей [тела] оно не смешивается с определенными соками и не претерпевает изменений, соответствующих природе органа, через который проходит. Так что то, что остается от его силы, является мелким и незначительным, гораздо меньшим, чем нужно для пользы страждущего» (II, 4). Совершенно обоснованным следует считать и осознание Галеном необходимости верно понимать функцию заболевшей части тела и учитывать предназначение соответствующего лекарственного средства: «Ведь многие из упомянутых выше вспомогательных средств, с одной стороны, облегчают страдания, а с другой – вредят естественной функции органа. Этот вред распространяется на все тело, причем двумя путями: если орган является причиной функции других органов, то и вред будет общим для всех этих органов, или если функция важна для всего тела, то и вред будет нанесен всему телу» (II, 4).
Гален предостерегает от опасности того, что в наши дни называется ятрогенными осложнениями: когда ошибка врача вследствие неверного выбора препарата или его дозы приводит к возникновению заболеваний, усугубляющих страдания пациента. Конечно, Гален оценивает эти осложнения с помощью понятийного аппарата, характерного для его системы знаний. Так, например, он рассуждает об опасности чрезмерного воздействия охлаждающих средств на природное тепло человеческого организма, которое называет «сущностью всех функций», или «первой и необходимейшей движущей силой». Подобный взгляд на процессы, происходящие в организме, конечно, устарел, хотя и сохраняет огромное значение для историков науки, предельно четко обозначая натурфилософские взгляды великого врача. Однако другие его соображения совершенно логичны и понятны даже современному медику. Так, например, Гален указывает на опасность чрезмерного потребления расслабляющих средств, нарушающих тонус, а следовательно, и функции системы пищеварения. Он заканчивает свои рассуждения на эту тему наставлением, которое может в качестве афоризма, украсить стены любого лечебного учреждения: «И все это следует учитывать в ходе лечения, иначе мы, сами того не заметив, болезнь вылечим, а больного убьем» (II, 4).
Далее Гален переходит к принципам лечения опухолей, под которыми он понимает «безболезненное и мягкое приращение плоти». Он пишет: «Случается же оно из-за флегмовидной субстанции или скопления газов, как бывает и с мертвыми телами, и на ногах и голенях, при состояниях, подобных водянке, чахотке, и других болезненных состояниях» (II, 5). Гален исходит из того, что опухоль представляет собой, с одной стороны, патологическое скопление излишнего объема, а с другой – разъединение нормальной структуры ткани посредством этого объема. Из этого следует тактика врача при опухолевом заболевании: «с одной стороны, отвести лишнюю жидкость, а с другой – соединить и связать» (II, 5). Дав краткую характеристику опухолям в целом, Гален переходит непосредственно к скирру, называя его «неестественной опухолью». Здесь вновь следует сделать комплимент клинической интуиции Галена: из изложенного далее будет видно, что характеристику «неестественные» у Галена получают два вида опухолей – скирр и рак. Скирр характеризуется Галеном как «неестественная опухоль, нечувствительная и жесткая», которая случается «из-за притока плохо растворимого, вязкого и плотного сока». При лечении скирра врач попадет в серьезную методологическую ловушку: с одной стороны, понимание процесса возникновения опухоли как результата патологического притока жидкости и газов требует применения высушивающих средств, с другой – скирр сам по себе является жестким и сухим образованием, которое необходимо увлажнять, добиваясь его рассасывания. Гален находит выход в попеременном осторожном применении взаимоисключающих средств, описывая это на конкретном клиническом примере – так называемом случае ребенка Церцилла. Эта история описана довольно подробно (II, 6). Мы лишь кратко ее перескажем, чтобы более четко уяснить клиническую логику Галена. Он осмысливает лечение, исходя из своего понимания этиологии и патогенеза опухоли: по его мнению, вещество, составляющее лекарственный препарат, должно состоять из наименьших по размеру гомеомерий в целях наиболее эффективного проникновения внутрь твердой и сухой опухоли. Гален чередует разрыхляющие воздействия с помощью ванн с сабинским оливковым маслом, при которых опухоль становится мягче (но не меньше), с уксусными смазываниями, при которых она уменьшается в размерах (но возвращается к прежней консистенции). Одновременно он заставляет пациента, под строгим врачебным контролем, добавлять физические нагрузки на пораженное скирром бедро (например, заставляя мальчика в своем присутствии прыгать на больной ноге). Конечно, Гален ничего не знал о микроциркуляции, но интуитивно понимал важность стимулирования обмена веществ в пораженной части тела. Кроме того, стоит вспомнить общие представления Галена о физиологии организма, в том числе ту их часть, которая основывалась на осмыслении идей Платона. Гален считал, что через кровь к частям тела поступает здоровый питательный и строительный материал, а от этих частей тела оттекают продукты распада. Этого достаточно, для того чтобы тактика, избранная Галеном для успешного исцеления трудного пациента, выглядела не только плодом счастливой интуиции врача, но и развитием плодотворного системного взгляда на целесообразность механизмов функционирования человеческого тела.
Далее Гален рассматривает подходы к лечению опухолей, вызванных скоплением газов. Его рассуждения совершенно логичны, но противоречат современным представлениям. Действительно, с позиций современной медицинской науки нельзя относить к одному виду заболеваний вздутие кишечника вследствие чрезмерного газообразования (метеоризм) и процессы, происходящие в мышцах и надкостнице. Мы часто подчеркиваем адекватность рассуждений Галена о причинах и методах лечения заболеваний достижениям современной медицинской теории. Однако в восьмом фрагменте анализируемого текста мы имеем дело с ситуацией, когда и семиотику Галена, и его клинические наблюдения можно однозначно счесть устаревшими. Нам представляется полезным проанализировать причины этого – они кроются именно в его логике, которая, как правило, была весьма продуктивной. Гален исходит из общности патологических процессов в разных частях человеческого тела. Кишечник и желудок, по его мнению, являются органами, имеющими полости, ограниченные стенками, которые он именует «мембранами». Мышцы и кости также ограничиваются «мембранами» от окружающих органов, следовательно, по мысли Галена, при определенных обстоятельствах в них могут возникать заполняемые газами полости. Опухолевидное образование в области мышц или суставов, при осмотре и пальпации напоминающее вздутый кишечник, можно было принять за полость, изнутри наполненную газом. В современном понимании, скорее всего, речь шла о гематомах – последствиях травм и ушибов. Гален вполне логично формулирует цель лечения – «разрежение слишком плотных тел и утончение слишком сгустившегося газа» (II, 8).
Соответственно, в основе лечебных средств должны находиться субстанции, состоящие из мелких гомеомерий, – в целях более глубокого его проникновения в уплотнившиеся ткани. Эти средства, «которые нужно выварить в оливковом масле, должны обладать согревающими свойствами и иметь мелкие гомеомерии, например кумин, растущий у нас, а еще лучше – так называемый эфиопский кумин, семена сельдерея, петрушки, укропа, петрушечника ароматного, аниса, любистока, жабрицы, пастернака и борщевика» (II, 8). Лучше причинить меньший вред, вызвав боль, но спасти жизнь, чем, излишне щадя пациента, пропустить момент, когда вмешательство еще возможно. Естественно, что это должно быть руководством для врача, понимающего, что сильный нагрев или травма кожных покровов, нанесенная банкой при борьбе с опухолью, весьма травматичны, но необходимы. Гален указывает на интересный аспект проблемы обезболивания – избавление от боли путем приема соответствующих средств: оно «происходит не за счет совершенного исцеления болезненного состояния, а за счет притупления способности чувствовать» (II, 8). Гален прекрасно понимает, что чувствительность частей тела передается в головной мозг с помощью нервов. Во вступительной статье мы подробно рассказали об истории открытия этих анатомических образований, указав на преемственность работ Герофила и Галена.
Гален осознает принцип передачи болевого сигнала и сознательно рекомендует в тяжелых ситуациях прибегать к препаратам опия. Он понимает, что болевое ощущение не покидает части тела и нарушение их целостности никуда не исчезает. Опиаты назначаются именно для того, чтобы «усыпить» конечное восприятие боли сознанием, локализующимся в головном мозге. Можно предположить, что Гален что-то знает о привыкании к опийсодержащим лекарственным средствам, – отсюда совет об интервале от полугода до года при их использовании.
Далее Гален рассуждает об абсцессах – так он называет образование патологического пространства, заполненного газом или жидкостью (либо и тем и другим одновременно), как бы раздвигающих части тела, плотно соприкасающиеся в нормальном состоянии. По его мысли, превращением в абсцесс могут осложняться некоторые воспалительные заболевания. Естественно, что для заполнения такой полости требуются болезненное нарушение равновесия жидкостей и их приток к месту локализации заболевания. Гален не говорит сразу об абсцессе, как гнойном осложнении, но несколько позднее отмечает: «При постановке же диагноза надо иметь в виду, что гноящийся абсцесс уступает, если нажать на него пальцами, так как он не жесток, в отличие от воспалившихся частей тела» (II, 9). Абсцесс, вызванный газами, по мнению Галена, часто обнаруживается там, где возникает тромбоз. Тактика лечения определяется необходимостью остановить нагноение: требуются подсушивающие и вытягивающие жидкость примочки (например, из ячменной муки). При серьезном нагноении требуется разрез с целью выведения гноя – Гален видит серьезную опасность как в поверхностном, так и в чрезмерно глубоком надрезе: первый недостаточен для дренажа полости, второй может вызвать тяжелое кровотечение, усугубляющее состояние больного. За хирургическим вмешательством должно следовать лечение сложными пластырями, рецепты которых подробно описываются во второй книге трактата (см. II, 9). Такие же пластыри следует применять при медленном или недостаточном опорожнении полости абсцесса. Опасность осложнений не отступает даже после разрешения абсцесса, тогда необходимо обратить внимание на уход за раной, ведь если «кожа вокруг места выделения гноя сильно размягчится, так что будет похожа на лохмотья, и перестанет слипаться с лежащими под ней тканями… рану следует лечить посредством так называемого “ухода по всей ширине”» (II, 9).
Следующим грозным осложнением воспаления и нагноения в описании Галена является свищ. Метод борьбы с ним – активное дренирование с введением в его полость едких растворимых лекарств, способствующих последующему заживлению. В случае образования расширений или разрывов в его глубоко залегающей части, приводящих к затруднению его опорожнения от сукровицы и других застойных жидкостей, следует прибегнуть к расширяющему надрезу. Далее потребуются повязка и пластырь, рецепт которого подробно описан Галеном (II, 10)[182].
Далее Гален описывает гангренозные воспаления – так он называет состояния, когда ткани «еще не стали омертвевшими, но уже делаются таковыми». Обратим внимание на последовательность изложения: Гален не просто перечисляет одну форму воспитательного заболевания за другой. Он располагает их по ходу умозрительного нарастания тяжести болезни, по мере наступления осложнений. Обычный воспалительный процесс может осложниться гнойным и далее превратиться в абсцесс. При разрешении последнего может образоваться свищ, а при неудачном ведении пациента – гангрена соответствующей части тела. Подход к лечению гангренозного воспаления, конечно, хирургический: «Лечением же ее будет удаление в возможно большем объеме из страдающей части гноящейся крови, из-за которой и происходит омертвение, так как сосуды из-за своей узости не могут ее вывести. Оставшейся же крови надо предоставить возможность дышать. Так что необходимо либо всю кожу покрыть частыми и глубокими надрезами, разрезая вместе с ней и плоть, под ней находящуюся, либо нанести многочисленные и глубокие рубцы. Дав крови вытечь, надо наложить лекарства, которые помогают при нагноениях» (II, 11). Иссечение пораженных гангреной частей тела должно быть направлено на отделение их от здоровых частей (это напоминает современный хирургический принцип иссечения в пределах здоровой ткани).
В завершающей части второй книги трактата Гален описывает подход к ведению раковых опухолей. Он отмечает рак груди как наиболее часто наблюдаемую болезнь такого рода и связывает ее возникновение с нарушениями природных очищений женского организма. Следует обратить внимание на исключительную наблюдательность Галена как врача-практика. В наши дни учет изменений гормонального фона в процессе онкогенеза считается общепринятым, любой онколог обращает внимание своих пациенток на регулярное проведение осмотров и маммографии при наступлении климакса и менопаузы. Мы не должны приписывать Галену знания, которыми он явно не обладал. Однако, связав нарушения менструального цикла с возникновением рака молочных желез, он обнаруживает большой практический опыт и наблюдательность.
Конечно, его объяснения развития рака с помощью идеи преобладания черной желчи имеют мало общего с современными. Однако они вполне логичны в рамках его системы – равновесие жидкостей сменяется доминированием черной желчи, в случае плохого выведения из организма она накапливается в определенных частях тела, смешивается с кровью и вызывает рак: «И чем плотнее и чернее кровь, тем злокачественней болезнь. На груди же мы часто ясно видели опухоль, подобную животному раку: как у этого животного ноги торчат во все стороны от тела, так и при этой болезни вены, выступающие во все стороны от неестественной опухоли, образуют фигуру, похожую на рака. Эту болезнь я часто вылечивал в самом ее начале, но если опухоль значительно увеличилась, то никто не вылечит ее без хирургической операции» (II, 12). Далее Гален описывает принцип удаления опухоли в границах здоровых тканей. Интересно, что по ходу изложения он неоднократно называет раковую опухоль «неестественной», тем самым отделяя рак и скирр от других заболеваний. Послеоперационное ведение, помимо ухода за раной, требует нормализации месячных, очищения организма и особой диеты, которую Гален подробно описывает во второй книге (II, 13).
Заканчивается трактат небольшим фрагментом, посвященным опухолям, вызванным увеличением желез, лечить которые следует с помощью лекарств, способных «выталкивать жидкость, высушивать и выводить гной».
В конце Гален не делает никакого специального заключения, суммирующего ранее изложенное, и завершает трактат-письмо вновь обращением к адресату – другу и ученику Главкону. Данное сочинение представляет собой обширное практическое наставление, или, говоря современным языком, методические указания. Этот стиль определяет преимущество текста, позволяющего нам лучше понять Галена как врача-практика.
ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ[183]
Πολλῶν γὰρ ἔτι δέονται οἱ ἐµπειρικοὶ πρὸς ὃ βούλονται, κἂν ταῦτ’ αὐτοῖς συγχωρήσωµεν. εἰ γὰρ µὴ ἴσα δείξαιµι τὰ λειπόµενα τοῖς εἰρηµένοις ἀτόποις, οὐδὲν οὐδ’ ἐκείνων ὄφελος εἶναί µοι βούλοµαι. σὺ µὲν οὖν εὖ οἶδ’ ὅτι τεθαύµακας οὐ µὰ Δία ἡµῶν, ἀλλὰ τῆς τῶν ἐµπειρικῶν εὐηθείας, εἰ τοσάδε καὶ ἐπὶ τοσοῖσδε συγχωρηθέντα λαβόντες οὐδὲν δή τι πλέον ἔχουσι, ἀλλ’ ἕτερα τῶν προτέρων αὐτοὺς οὐκ ἐλάττω διαδέχεται σφάλµατα. παντελὴς γὰρ ἄγνοια καὶ ὑπερβάλλουσά τις ἀναίδεια καὶ σχεδὸν ὑπὲρ τὰ βοσκήµατα ἡ ἀναισθησία, εἰ µήτε ἀπὸ τίνος ἄρξονται ἔχοντες µηδ’ εἰ τοῦτ’ αὐτοῖς τις δοίη πλειστάκις ὡσαύτως ἰδεῖν τι δυνάµενοι µηδὲ τοσαύτας µυριάδας τὰς ἐν τοῖς νοσοῦσιν ἑτερότητας ἰδεῖν ἢ µνηµονεῦσαι ἢ ἀπογράψασθαι δυνατόν – ἢ τίς ἂν ἔτι βιβλιοθήκη τὴν τοσαύτην ἱστορίαν χωρήσειε, τίς δ’ ἂν ψυχὴ τὴν τοσούτων καταδέξαιτο µνήµην—ὅµως οὐδ’ οὕτως αἰσθάνονται ὅτι διαπαίζοντες αὐτοῖς ταῦτα συγχωροῦµεν, ἀλλ’ ὡς ἐπὶ βεβαίοις ὑπάρχουσιν ἔτι φιλοτιµοῦνται περὶ τῶν ἑξῆς. ἐγὼ τοίνυν οὐ δι’ ἐκείνους—περιττὸν γὰρ λίθοις διαλέγεσθαι—ἀλλ’ ἕνεκα τοῦ τελειῶσαι τὸν λόγον ἐναργῶς ἐπιδείξω ὅτι κἂν πλειστάκις ὡσαύτως ὁρᾶσθαί τι συγχωρηθῇ[ναι], οὐδὲν ἐκ τούτου θεώρηµα τεχνικὸν συστήσονται. καὶ µή τις δόξῃ µε τοῦ Πλάτωνος χρήσεσθαι λόγῳ, ὡς εἴ τις µὲν τῶν ἐπιτηδεύσεων τὴν φύσιν γιγνώσκει τῆς ὕλης, περὶ ἣν καταγίνεται, αὕτη µὲν τέχνη ἐστίν, εἰ δὲ µή, τριβὴ µέν τις καὶ ἐµπειρία, τέχνη δ’ οὔ. “ἐγὼ µὲν γάρ,” φησίν, “οὐ καλῶ τέχνην ὃ ἂν ᾖ ἄλογον πρᾶγµα.” οὐ χρῶµαι δ’ αὐτῷ οὐχ ὅτι οὐκ ἔστιν ἀληθής—µαινοίµην γὰρ ἂν εἰ τοῦτο λέγοιµι—ἀλλ’ ὅτι ἡ ἀναισχυντία τῶν ἐµπειρικῶν καὶ τοῦτο προσίεται, καὶ οὐδὲν αὐτοῖς µέλειν ἐροῦσιν, εἰ τούτου γε ἕνεκα µὴ τέχνην αὐτῶν τὸ ἐπιτήδευµα καλοῖµεν, ἀλλ’ ἄλλο τι. τίνες οὖν εἰσιν οἱ ἐµοὶ λόγοι; πρῶτος µὲν οὗ καὶ παρ’ αὐτῶν ἐκείνων συγκεχώρηται τὰ λήµµατα. ἡ γὰρ τῶν πλειστάκις ὡσαύτως ἑωραµένων τήρησις καλεῖται µὲν οἶµαι παρ’ αὐτῶν ἐµπειρία· σύγκειται δ’ ἐκ πολλῶν τῶν καθάπαξ· ἄτεχνον δὲ τὸ καθάπαξ αὐτοί φασιν· εἴη <ἄρ’> ἂν τὸ πλειστάκις ἐκ πολλῶν ἀτέχνων συγκείµενον. καὶ ὧδ’ ἂν ὁ λόγος ἐρωτηθείη· εἰ τὸ καθάπαξ ἄτεχνον, τὸ δὲ πλειστάκις ἐκ πολλῶν τῶν καθάπαξ σύγκειται, ἄτεχνον τὸ πλειστάκις. ἀλλὰ µὴν τὸ καθάπαξ ἄτεχνον· καὶ τὸ πλειστάκις <ἄρα>. ἀλλ’ ἴσως οὐδ’ ὃ λέγοµεν εἰδέναι φήσουσι. φεύγειν γὰρ ὁµολογήσουσι τά τε ἄλλα µαθήµατα καὶ διαλεκτικήν. εἰ βούλει τοίνυν, τοῦτον µὲν ἡµῖν αὐτοῖς εἰρηµένον τὸν λόγον ἐῶµεν, ἐκείνους δ’ ἐρωτήσωµεν ἕτερόν τινα τοιοῦτον. ἆρά γε, ὦ ἐµπειρικοί, τὸ πλειστάκις ὁποσάκις ἐστίν, εἰπεῖν ἔχετε ἡµῖν; βουλόµεθα γὰρ δὴ καὶ αὐτοὶ γνῶναι παραπλησίως ὑµῖν διὰ τηρήσεως. ἵν’ οὖν µὴ ἀµετρίᾳ τοῦ δέοντος ἁµαρτάνωµεν ἢ πρὸ τῆς ἱκανῆς αὐτοῦ θέας ἥκειν ἐπὶ τὸ τέλος ἤδη νοµίζοντες ἢ περαιτέρω τοῦ προσήκοντος ἐκτεινόµενοι <τὴν τήρησιν> ἀγνωσίᾳ τοῦ µέτρου, δεόµεθα ὑµῶν καὶ ἡµῖν δεῖξαι τὸ µέτρον, ἵνα καὶ αὐτοί τι µάθωµεν ἐκ τηρήσεως. “ὦ µωρέ” φησὶ γελάσας, “τὸ ἓν αἰτεῖς ἓν οὐκ ἔστιν ἁπάντων µέτρον, ἀλλὰ καθ’ ἕκαστον ἄλλο. σὺ δ’ ὅµοιον ἐπύθου ὡς εἰ καὶ σκυτοτόµον τις ἀξιοῖ διδάξαι αὐτὸν τὸν καλάποδα τίς ποτέ ἐστιν ᾧ πάντας ὑποδεῖ. οὔτε γὰρ ἐκεῖ τῶν ποδῶν ἓν µέτρον· ἄνισοι γάρ· οὔτ’ ἐνθάδε τῶν πραγµάτων· διάφορα γάρ.” ἐγὼ δ’ ἀσµενίζω καὶ δέχοµαι τὴν ἀπόκρισιν καὶ ἀγαπῶ πολὺ µᾶλλον ἢ εἰ ἓν ὑπέσχετό µοι πάντων ἐρεῖν. τότε µὲν γὰρ κἂν ὑπώπτευον, εἰ παρὰ πολὺ τῶν πραγµάτων διαφερόντων ἓν ἐπάξειν ἐπηγγέλλετο µέτρον, νυνὶ δὲ εἰ καθ’ ἕκαστον ἴδιόν τι δείξειέ µοι, πάνυ τεύξεσθαι τοῦ ἀληθοῦς ἤλπικα. καὶ δὴ οὖν ἀπὸ τῶν ἁπλουστέρων ἀρξάµενος πυνθάνοµαι, ὁποσάκις ἂν εἴη µοι θεασαµένῳ τὸν µηνιγγότρωτον ἀκριβῶς εἰδέναι, πότερον διὰ παντὸς ἢ ὡς <ἐπὶ> τὸ πολὺ ἢ σπανίως ἢ ἀµφιδόξως τεθνήξεται, ἀλλ’ οὐδεὶς αὐτῶν τὸ µέτρον οὔτε νῦν ἡµῖν ἀπεκρίνατο οὔτε ἐν τοῖς βιβλίοις ἔγραψε. µήποτ’ οὖν οὐδ’ ἔχουσί τι καθ’ ἕκαστον ὡρισµένον; ὅτι µὲν οὖν καὶ ἤδη αὐτῶν ἔρρει τὰ πράγµατα, παντὶ δῆλον. ἀλλ’ ἐφεξῆς ἂν εἴη, καθάπερ ἀρχῆθεν αὐτοῖς διελέχθηµεν προσεπαίσαµεν, εὐγνωµόνως ἔτι καὶ νῦν ἡµᾶς ἐπισκέψασθαι κατὰ µόνας, πότερον ἐκείνοις µὲν ἀγνοεῖται τὸ <τοῦ> πλειστάκις µέτρον, ἔστι δ’ ἐν τῇ φύσει τῶν πραγµάτων, ἢ οὐδ’ ὅλως συστῆναι δυνατὸν ὑπάρχειν τι µέτρον ἐπὶ τοῦ πλειστάκις, <ὃ δ>ὴ αὐτὸ ποιήσει πρότερον οὐκ ὂν τεχνικὸν νυνὶ τεχνικὸν εἶναι. ἐγὼ µὲν οὖν ἐπεσκεψάµην αὐτὸ πολλάκις. ἢ οὐκ ἂν αὐτοσχεδίως… τὸν ζ′ ἔτι θεάσασθαι περιµενεῖς καὶ τὸν η′ καὶ ὅλως πάνυ πολλοὺς ἐφεξῆς. τί ποτ’ οὖν ἔτι συκοφαντήσεις καὶ ἀσύστατον ἐρεῖς τὴν ἐµπειρίαν καὶ τὸ πλειστάκις ἀπεριόριστον καὶ ὕποπτον ἀποφανεῖς οἷ[ς] στήσεται, λέγων οὐχ εὑρίσκειν οἴει τε µᾶλλον ἡµᾶς ἢ σαυτὸν καταβάλλειν; ἐµοὶ µὲν γὰρ δοκεῖ σαυτὸν µᾶλλον. ὄντοιν γὰρ δυοῖν, ἑνὸς µὲν τοῦ διὰ µόνης εὑρίσκεσθαί τι τηρήσεως—ὅπερ ἐγώ τε βούλοµαι καὶ ὑµεῖς ἄκοντες µὲν καθοµολογεῖτε ἀλλ’ ὅµως—, δευτέρου δὲ τοῦ πῶς—ὃ ἐγὼ µὲν οὔτε δυνατὸν οὔτε χρήσιµον εἶναί φηµι, σὸν δὲ λοιπὸν εἴη ἂν ἔργον τοῦτο εὑρεῖν, ἄπορον αὐτὸ ἀποφαίνων τῷ σοφίσµατι σαυτὸν <µὲν> καταβαλεῖς, ἡµᾶς δὲ οὐδὲν ἀδικήσεις. οὐ γὰρ περὶ τοῦ πῶς ἕκαστον γίνεται τεχνικὸν ὁ ἀγὼν ἡµῖν ἐστιν, ἀλλ’ ὅτι γίνεται µόνον, ὅπερ ἐναργῶς ἔχοµεν ὁµολογούµενον. σὺ δὲ ὁ τὰς αἰτίας πο-λυπραγµονῶν δίκαιος εἶ καὶ τὸ πῶς ἐκδιδάσκειν. ἀλλ’ ἔοικας ἔµπαλιν τοῦ δέοντος ἰέναι καὶ ὅµοιόν τι ποιεῖν τοῖς ἐπεὶ µὴ γινώσκουσι ὅπως ὁρῶσιν µηδ’ ὁρᾶν ὁµολογοῦσιν ἢ ἐπειδὴ τίνα τρόπον γίνεται τὰ γινόµενα καὶ φθείρεται τὰ φθειρόµενα καὶ τὰ κινούµενα [µή] κινεῖται µὴ γινώσκουσι οὔτε γένεσιν οὔτε φθορὰν οὔτε κίνησιν ἀπολείπουσιν. ἀλλ’ ὅτι ἡ µεγίστη παντὸς λόγου διαβολὴ ἡ πρὸς τὸ ἐναργές ἐστι µάχη, τίς οὐκ οἶδεν; ὃς γὰρ οὐδ’ ἄ ρξασθαι δύναται τῆς ἐναργείας χωρίς, πῶς ἂν οὗτος πιστὸς εἴη, παρ’ ἧς ἔλαβε τὰς ἀρχάς, κατὰ ταύτης θρασυνόµενος; τοῦτο καὶ Δηµόκριτος εἰδὼς ὁπότε τὰ φαινόµενα διέβαλε “νόµῳ χροιή, νόµῳ γλυκύ, νόµῳ πικρόν” εἰπὼν “ἐτεῇ δ’ ἄτοµα καὶ κενόν” ἐποίησε τὰς αἰσθήσεις λεγούσας πρὸς τὴν διάνοιαν οὕτως· “τάλαινα φρήν, παρ’ ἡµέων λαβοῦσα τὰς πίστεις ἡµέας καταβάλλεις; πτῶµά τοι τὸ κατάβληµα”. δέον οὖν καταγνῶναι τοῦ λόγου τῆς ἀπιστίας, ὃς οὕτως ἐστὶν µοχθηρός, ὥσθ’ ὁ πιθανώτατος αὐτοῦ µάχεται τοῖς φαινοµένοις, ἀφ’ ὧν ἤρξατο, τὸ ἐναντίον ἐργάζεσθε τῶν ὡς γίγνεται οὐκ ἐχόντων λόγον, ὡς ὁ λόγος δὲ βούλεται µὴ γιγνοµένων κατεγνωκότες· ἐµοὶ δ’ αὐτὸ τοῦτο ἔλεγχος εἶναι δοκεῖ µέγιστος τοῦ λόγου· τίς γὰρ ἂν ἔτι νοῦν ἔχων πιστεύσειεν αὐτῷ περὶ τῶν ἀδήλων, ὃς οὕτως ἐστὶ µοχθηρὸς ὥστε τοῖς ἐναργέσιν ἐναντία τίθεσθαι;



