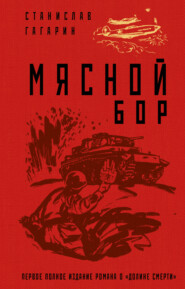
Полная версия:
Мясной Бор
Антокольский и сам встал на колено, протянул вперед руку с пистолетом, чтобы вскочить на ноги, и тут крупнокалиберная разрывная пуля угодила ему в лоб. Взрывом лейтенанту снесло переднюю часть черепа, она упала рядом с лицом все еще лежавшего красноармейца, кусочки розовато-серого мозга ударили красноармейца по глазам. Пивоваров замычал, зажмурился. Откатился в сторону, не выпуская из рук винтовки, рывком поднялся и закричал бессмысленное «а-а-а». Правой рукой потрясал винтовкой, грозил ею немцам, а левой размазывал по лицу кроваво-серую кашицу, что мгновение назад была мозгом взводного командира. Потом Пивоваров взял винтовку наперевес и бросился к таким далеким, исчезающим в серой дымке еглинским избам.
…Комиссар Венец находился в первом батальоне. Несмотря на протесты комбата, имевшего на этот счет особый приказ полковника Глазунова, Иосиф ушел в атаку в цепи стрелкового взвода, им командовал сержант Григорий Расев. Бойцы развернулись в цепи – их прикрыл огнем взвод лейтенанта Богородицкого – и короткими перебежками подобрались к восточному краю деревни Большое Еглино, не потеряв ни одного человека. Сержант Расев совершил немыслимый прыжок и бросил связку гранат во вражеский станковый пулемет. Пулемет замолчал. Бойцы схватились с гансами врукопашную, а за спинами их уже раздалось торжествующее «ура!». Это поднялся в атаку первый батальон…
Расчет полковника Глазунова полностью оправдался. Расправлявшиеся с новичками из уральских маршевых рот немцы не заметили, как в тыл им зашли ветераны. Они ошеломили гитлеровцев неожиданным ударом, и те поспешно отступили из Большого Еглино, бросив оружие, значительные запасы продуктов, что было весьма кстати для жившей на скудном пайке бригады, и штабной автобус, набитый документами и канцелярским имуществом.
А правее, у Малого Еглино, бой становился все ожесточеннее, немцы продолжали изо всех сил цепляться за деревню и железнодорожный разъезд. Они укрепились в подвалах домов, удерживали опорные позиции. Более того, гитлеровское командование вознамерилось вернуть Большое Еглино, применив танки. Со стороны разъезда показались три тяжелых танка, захваченных в 1940 году во Франции. Лобовая часть у них была экранирована дополнительной броней. А у бригады лишь «сорокапятки», их снаряды для такой машины что слону дробина. Но вырвался вперед орудийный расчет сержанта Жукова, начал дуэль с плененным когда-то и теперь верно служившим захватчикам французом.
– Прямой наводкой, ребята! – крикнул командир орудия, и артиллеристы выкатили «сорокапятку» руками на окраинную улицу деревни.
– Бронебойным!
Подносчик Вася Анохин подал длинный узкий снаряд, щелкнул замком, запирая его в стволе.
– Огонь!
Из танка их еще не видели. Машина, тяжело урча мотором и лязгая гусеницами, крутила башней, высматривая атакующих правее беззащитного, стоявшего на открытом месте расчета. Его едва прикрывал куцый броневой щит пушки, надежный разве что против винтовочных пуль и мелких осколков, так себе щиток, мертвому припарка.
Снаряд ткнулся в броню танка и с визгом ушел вверх. Рикошет, хотя и били бронебойным.
– Огонь! – заорал Жуков, и снова, как горох от стенки, отлетел снаряд.
Не брал он тяжелые танки…
– По гусеницам наводи! – крикнул сержанту Анохин.
– Навожу! – ответил Жуков и увидел, что танк повернул к ним башню и, не стреляя, рванулся на их позицию.
Бойцы еще могли отскочить от мчавшейся на них громадины в разные стороны, и тогда была бы небольшая возможность сохранить жизнь. Только не захотели Анохин и Жуков оставить пушку. Теперь Жуков метил в рвущиеся к ним траки, от них летел в стороны снег, траки быстро съедали последние метры, а он все наводил и наводил, кричал: «Огонь!», и маленькая «сорокапятка» злобно лаяла на стальную махину, гордая в решимости умереть, но не отступить.
Не отступили… Когда оставалось немного, Бруно Мильгауз напрягся в сиденье, чтоб легче принять на себя удар. Он слился с машиной, летящие по каткам траки стали его конечностями, руки удлинились, продолжились через рычаги во фрикционы, бешено работающий мотор заменил Бруно его сердце. Он кричал бессмысленное, но кричал молча, приученный разговаривать в танке только о том, что относится к боевой обстановке, ведь любое произнесенное слово слышал весь экипаж. Бруно любил давить живое мощью и многотонным весом своего тела-танка. Он испытывал нечеловеческое наслаждение, подлинная страсть охватывала все его существо, и Бруно давил убегающих в поле красноармейцев летом сорок первого года, расплющивал беженцев с их жалкими тележками для скарба, давил раненых, лежащих на топчанах под тентом палаток окруженного медсанбата, утюжил русские окопы, раздавливал грузовики с пехотой и штабные «эмки». Но больше всего Бруно любил кромсать вот такие безобидные для его тяжелого танка пушчонки…
Последний снаряд наверняка разбил бы трак у танка. Только времени Жукову уже не хватило. Танк навалился всей многотонной массой, правая его гусеница ударила пушку по левому колесу. Ствол «сорокапятки» задрался кверху, казалось, он потянулся, чтобы схватить за орудийное жало врага и попытаться его вырвать… Но ствол у нее был коротким и задирался все выше. И когда смотрел уже в серое равнодушное небо, грянул бесполезный теперь выстрел.
А танк-«француз» опрокидывал пушку на головы ее хозяев. Они припали к орудию, будто ища у него спасения. Жуков спрятал голову за щиток, словно щиток мог спасти его, впрочем, сержант не думал об этом, он прикрылся скорее по привычке, так его всегда учили. Подносчик Анохин потянулся за новым снарядом, но глянул, как далеко стоит ящик, и остался на месте. А заряжающий Юсов, не получив в руки снаряда, увидел, как стал приподниматься открытый казенник, упал, стараясь обнять его.
Бруно Мильгауз опрокинул пушку. Она упала, накрыв артиллеристов, и Бруно смял все, что было перед ним, потом взгромоздился на исковерканные останки, мстительно крутанулся и раз, и другой, поурчал от сладострастия, ухнул, довольный победой, и помчался по улице, высматривая новую добычу.
Пытался остановить другой танк расчет сержанта Маметьева. Он тоже бил по тракам и тоже не успел. И тогда громыхающий, извергающий пламя и чад танк затоптал и сержанта Маметьева, и наводчика Антонова, и Губаревича – подносчика снарядов.
И Жуков, и Маметьев не отступили… Много было таких, не отступавших! И лязгающий убийца не избежал возмездия. Пока он расправлялся с расчетом Маметьева, командир батареи лейтенант Феофанов выцелил его сзади. Выстрел – и гусеница распласталась. Второй – попадание в моторную группу. И разорвалось железное сердце железного зверя.
…Глазунов и Венец обходили утром бывшее поле сраженья. Было уже 10 февраля 1942 года. Они выбили немцев из обеих деревень и железнодорожного разъезда, потеснили противника дальше, в сторону Каменки, подбираясь к рокадной одноколейке. И вот комбриг и комиссар пришли туда, где начали атаку уральские ребята. Раненых давно подобрали, убитые ждали похоронной команды, теперь им было не к спеху. Глазунов и Венец обошли труп взводного Антокольского, постояли над ним молча с минуту, закурили, пошли дальше. Ближе к деревне убитых было больше.
– Я помню этого парня, – сказал Иосиф Венец, глядя на распластавшего в стороны руки, лежащего лицом вверх красноармейца. – Говорил с ним перед боем, как заряжать винтовку показывал. Семеном его звали, из Нижнего Тагила.
Комбриг нагнулся и попытался высвободить винтовку из сжатых пальцев Семена. Но тот оружия не выпускал.
– Гляди-ка, – сказал Глазунов, – и после смерти воином остался. Помоги, комиссар. Винтовка его пригодится другому.
Вдвоем они освободили тагильчанина Семена от оружия, и стал он теперь обыкновенным человеком. Обыкновенным мертвым человеком.
Венец прошел дальше. Его остановил возглас комбрига:
– Ты видишь, комиссар? Смотри сюда! Ведь он винтовку с предохранителя так и не снял…
– В горячке, – не поворачиваясь, сказал Венец. – С молодыми бывает. На этом поле здесь он такой не один.
– Погиб в бою, а по врагу не выстрелил ни разу, – проговорил комбриг, догоняя комиссара. – Какой ценой измерить его смерть?!
39Всем давно хотелось отварной картошки.
Порой диву даешься, когда видишь необычную нежность, с какой истинно русский относится к бесхитростному блюду – картошке в мундире. Какая уж тут хитрость! Отмыл клубни, залил водой и ставь на огонь. А закипит вода – посоли круто. Ну, это на чей вкус. Иные варят в несоленой, а потом щедро макают освобожденную от кожуры, исходящую паром картофелину в крупную соль, она так приятно поскрипывает на зубах… Эх, картошка! До чего же полезный и вкусный продукт, особливо в те времена, когда выпадают народу голодные испытания!
Никто не воспел картошку в торжественных одах, но, если бы принято было водружать растениям памятники, на Руси поставили б картошке настоящий мемориал. А ведь были времена – никак не хотели ее принять. Бунтовали жестоко, дрались с екатерининскими солдатами, отвергали «ведьмины яблоки», и снова (привычное дело!) лилась русская кровь. Теперь и не верится даже. Немыслим русский стол без жаренной на подсолнечном масле с луком, испеченной в жаркой золе костра, отварной с селедочкой, намятой со шкварками…
А им хотелось попросту – «в мундире». У помкомвзвода день рождения случился. На войне обычно про эти дни не вспоминают, только раз на раз не приходится, тут вот и вспомнил сержант Меледин, что стукнуло ему аж целых двадцать два.
Степан Чекин в роте этой был новичком. Он досрочно отпросился из медсанбата. Комбат Ососков отпустил его без особых возражений, и Чекин хотел вернуться в свою дивизию, но дивизия сменила позиции, знать о ней могли лишь в армейском штабе, куда сержантов и на порог не пускают.
На прежнем месте он воевал недолго, ни к кому не успел привязаться быстротечно и кровно, как привязываются на переднем крае, и корешков у Степана там не было. Вот и остался в Сорок шестой. Так и попал на скромное торжество сержанта Меледина.
– Котелок бы картошки слопал, – мечтательно сказал именинник, – да ежели с огурцом еще…
– Селедки можно, – отозвался старшина, – имеется в заначке.
– У тебя чего в той заначке только нет, – заметил сержант из третьего взвода Ермолай Трутнев, долговязый и сумрачный сибиряк.
– Картошечки… – простонал Денис Меледин. – Чую дух от нее.
– Может, тебе и бабу к ночи? – спросил старшина Гурьев. – Конечно, бабу я произвести не в состоянье, а вот картошку…
– Добудешь? Трофейный «парабеллум» подарю…
– На кой хрен он мне сдался, я «наганом» обойдусь, – сказал Гурьев, звали его Виктором, и был он один, пожалуй, кадровый сверхсрочник в батальоне. – А с этим закусем, по которому ты млеешь, дело не простое. За ним идти опасно.
– Куда? – вскинулся Меледин.
– Сиди, сержант, – остановил его Гурьев, – не выпрыгивай. Твое дело сторона. У тебя, брат, праздник.
– Слыхал я про тот сарай, – сказал Ермолай Трутнев. – Херня все это на постном масле, байки.
– А я в третьей роте давеча жареной отведал, – возразил Гурьев. – Картошка из того погреба была. Понял? Смелые там ребята, в третьей. Каждую ночь ходят.
– Доходятся, – буркнул Трутнев. – Давайте жребий бросим.
– Не надо жребия, – сказал вдруг молчавший до тех пор Степан. – Чего там… Я пойду.
…Эти двое не боялись друг друга. Страх всколыхнулся было на донышке сознания и угас. Не потому, что его задавили усилием воли. Необычность обстановки, а главное – вовсе не военный характер затеянного ими не дали страху разрастись и превратиться в ожесточение, ярость, желание уничтожить другого. Может быть, эти чувства порождаются не страхом, только он содержится в первоначале побуждения, заставляющего поднять меч. Страх, опасение за свою жизнь, стремление сохранить ее – естественное состояние живого, почуявшего опасность, инстинктивное состояние. И когда страх не развился, возникла пустота, и в незаполненное место пришло любопытство.
…Степан Чекин, руководствуясь напутствием старшины Гурьева, как пробраться в погреб с картошкой, забрался в него первым. Он захлопнул за собой двойной, обитый старым одеялом люк, спустился по приступке и оказался на куче картошки, неведомо как сохранившейся в разоренных голодом краях.
Погреб был просторным. Чекину показалось, что под люком картошка подмерзла, на ощупь была твердой и холодной, и тогда он сместился в угол; угол был пустым, видно, картошку ссыпали сверху и не успели распределить по закромам.
Тьма в погребе была кромешной. В углу картошка, представилось Степану, была не такой холодной. Он стянул с плеча вещевой мешок и стал бросать клубни, ощупывая каждый: ненароком не закинуть бы гнилой. Вещевой мешок грузнел и обретал добрую форму. Чекин прикидывал рукой, далеко ли до края, чтоб завязать хватило; еще немного – и будет довольно…
Степан, опытный вояка, понимал: его ночной поход на ничейную землю станет известен в роте и лихость эту оценят красноармейцы. Правда, если узнает начальство, то может и врезать за ухарство, но Степан знал, что официально никто командиру роты не сообщит, а слухи, они и есть слухи. И потом, ему самому страсть как захотелось картошки в мундире. Да еще если под обещанную старшиной селедочку…
Он набрасывал в мешок последние клубни, когда открылся вдруг люк. Тот, кто открыл его, помедлил, а Степан замер в углу, затаился. Миновали секунды… Пришелец наверху включил фонарь. Луч света упал в погреб, поерзал-поерзал по картошке и погас. Человек стал спускаться, он мурлыкал песенку, тихо мурлыкал, одну мелодию и различил Степан. Но сразу понял – чужой.
Вилли Земпер, это был он, снова зажигать фонарь не стал. Ему и в голову не приходило, что в погребе может находиться кто-нибудь еще. Он был прекрасной мишенью, когда спускался. И если его не убили, то просто потому, что это некому сделать. А Чекин Степан и сам не мог объяснить, почему сразу не ухайдакал немца. За пазухой у него был «наган». Ахни разочек – и нету пришельца. Видимо, время еще для того не приспело. Не так скрестились военные пути-дороги этих людей. Да и не сразу понял Чекин, кто спускается в погреб. Мало ли кто какие песни мурлычет… А когда Вилли Земпер засветил зажигалкой парафиновую плошку и поставил ее на ступеньку, чтобы освещала ему поле действия и руки чтоб оставались свободными, тогда стрелять было поздно: возникло любопытство.
Впервые Чекин видел врага так близко. Конечно, в атаке он уже не раз лицом к лицу сходился, но в атаке перед тобой не человек, а воплощенное в его обличье зло. А вот так… Тихо, мирно горит плошка, ганс мурлычет себе спокойно, снимает с плеча пустой ранец из рыжей телячьей кожи, отстегивает крышку и, став на колени, деловито, по-хозяйски, с крестьянским пониманием начинает ощупывать клубни.
Земпер решил: эта картошка под люком подмерзла. Он потискал-потискал один клубень, поднес к лицу, понюхал и отшвырнул в сторону. Обвел глазами погреб, едва освещенный плошкой, и встретился взглядом с Чекиным. Он тоже никогда не видел так близко русского. Убивал он их всегда с расстояния, даже лиц их, встречающих смерть от его руки, никогда не видел. После его снайперского выстрела кувыркнулся в снег – вот и продолжил боевой счет баварский крестьянин.
Теперь же они глядели друг на друга и не знали, что им делать. Каждый пришел в погреб с мирной целью, кровавые заботы войны оставив там, наверху, и на какое-то мгновение солдаты двух враждебных армий растерялись…
Когда Чекин был на Невской Дубровке, зимой установились с немцами особые отношения по части питьевой воды. Она была в Неве, а Нева находилась под обоюдным обстрелом. Но когда собирались за водой, на той или другой стороне начинали бренчать ведрами, бить металлическим в донья. Оповестит таким образом немцев красноармеец и спокойно идет к проруби за водой. С той стороны не стреляют. Приспичит тем невской водицы попробовать – они бренчат. Тогда наши дают им напиться… Однажды прибыл товарищ из штаба и увидел: гансы собрались на водопой, дав перед этим сигнал. Удивился гость, схватил винтовку, прицелился и выстрелил уж было по немцу с ведрами, да случившийся рядом сержант ударил по стволу. Пуля ушла в небо, а разъярившийся штабист вторым выстрелом прикончил самого сержанта.
Скандала особого не произошло, дело замяли, но всякое бренчанье прекратили. За водой на невский лед ползали теперь ночью…
Вилли Земпер виновато улыбнулся. У него вдруг возникло странное чувство, которого не испытывал ни в Голландии, ни в Польше, ни тем более в России. Баварцу почудилось, что застали его в погребе у соседа, веселого и разбитного Уго Лойке. Вилли даже чуть было не рассмеялся, до того вздорным и нелепым показалось ему это ощущение, но как будешь смеяться, если этот иван таращит на тебя глаза.
Обстановка была и смешной, и нелепой, но враждебностью в густом и тяжелом воздухе погреба не пахло. Может быть, случись так, что встретились они у вещмешка с картошкой или телячьего ранца, который мог стать собственностью лишь одного из них, тогда возникла бы необходимость борьбы за обладание. Но картошки было вдоволь, она заполняла вместительный погреб, и нет нужды вступать в спор из-за нее.
Первой мыслью, которая пришла к Земперу, было намерение уйти несолоно хлебавши. Если, конечно, иван позволит ему сделать это. «Ein Mann – kein Mann» (один в поле не воин), – подумал Вилли, – надо уносить ноги подобру-поздорову». У него был с собой пистолет, но сейчас он даже не вспомнил о нем. Зато вспомнил шуточки Руди Пикерта о медвежьей болезни и разозлился, представив, как будут хохотать товарищи, когда он придет с пустым ранцем. Они попросту не поверят тому, что Земпер побывал в погребе.
Тогда Вилли взял в руки картофелину, показал Степану и сделал движение, будто кладет ее в ранец. Чекин пристально смотрел на немца. Тот повторил движение и вопросительно глянул на него.
«Черт возьми, – мысленно воскликнул Степан, – да ведь он просит у меня разрешения! Хрен с тобой, немецкая говядина, набирай ранец…»
Чекин кивнул: давай, мол, пользуйся, а что еще оставалось, и Земпер, покивав благодарственно в ответ, принялся накладывать картошку в ранец, не забывая ощупывать каждую и даже подносить ее к свету. Передвинуться в место получше солдат не решился. Наверно, попалось ему и достаточно мерзлой, и Вилли понимал это. Только сказано ведь: кто вовремя не приходит, получает то, что остается.
Пока Вилли Земпер набирал картошку в ранец, Степан Чекин лихорадочно соображал, что ему делать дальше, прикидывал, как лучше им разминуться. Поначалу хотел загнать Вилли в угол с наполненным ранцем, чтоб выбраться из погреба первым, ведь Земпер загораживал люк, он устроился прямо под ним. Но эту идею Степан отверг. Ему не хотелось поворачиваться к гансу спиной, вылезать из погреба первым.
– Уходи, – сказал он немцу, когда тот застегнул наполненный ранец.
Вилли вопросительно взглянул на Чекина – не будешь стрелять? – и сержант отрицательно покачал головой. Земпер поверил ивану. Он просунул левую руку в лямку ранца, а правой снял со ступеньки парафиновую плошку, она мешала ему подниматься, и осторожно приладил ее среди клубней, хотя первой его мыслью было резко отбросить мерцающий огонек в угол подвала и стремглав броситься к спасительному люку. Но Вилли пересилил себя. Он оставлял огонь русскому и открывал ему беззащитную спину.
Вилли, покинув погреб, оставил люк открытым. И только теперь Степан понял, что оказался в дурацком положении. А что, если мордатый ганс караулит его наверху? С другой стороны, пойди Чекин первым, что помешало бы тому выстрелить в поднимавшегося по ступенькам Степана?..
Сержант завязал мешок, приладил его за плечами, достал «наган», крутанул барабан, взвел курок. Со взведенным курком на долю секунды выстрелишь быстрее.
Горела плошка. К шибавшему в нос картофельному духу примешивался запах сгоревшего парафина. Чекин взял плошку в руки. Парафин расплавился, фитилек плавал в лужице, и Степан пожалел, что не сумеет унести плошку с собой, сгодилась бы в хозяйстве.
Он поднял на плечо вещмешок, задул огонь, надвинулась темень, потом опустил плошку, горячий парафин пролился и несильно обжег ему пальцы.
Лесенку Степан преодолел рывком, держа револьвер наготове. Выметнувшись из люка, сразу упал на земляной пол сарая, прислушался. Никто не стрелял, никто не кричал ему «Руки вверх!».
Чекин захлопнул люк, чтоб не перемерзла в погребе картошка, и выбрался из-под упавшей кровли сгоревшего сарая.
В чистом поле он перевел дух и осмотрелся. Ветер усилился. По ничейной земле суетилась поземка. Начиналась метель.
40Тамара Бренькова готовилась умереть. Она знала, что с такой раной не выживают. Мало того, Тамара всем существом чувствовала приближение смерти. Погибель ее обернулась бомбовым осколком с иззубренными краями. Он рассек молодое, сильное тело не успевшей ни разу родить женщины, и только о том жалела сейчас Тамара, что не оставит после себя никакого следа на земле. Когда, после налета немцев, похоронили врача Свиридова, Тамару будто подменили. Она осунулась, замкнулась, все валилось у нее из рук. Комбат Ососков как-то сгоряча наорал на сестру, потом пригляделся внимательно и махнул рукой: «Не жилец на белом свете, смерти девка ищет…»
Принято считать на войне, что, ежели кто умереть собрался, жизнь кому стала в тягость, того косая быстренько приберет к рукам. Правда, не всегда получается так. Бывает, лезет мужик в пекло, вызывает огонь на себя, чуть ли не грудью пули ловит, а те его минуют и минуют… Но чаще все же происходит по первому правилу.
Подловилась Тамара на одной-единственной бомбе, ее сбросил к ним «Юнкерс», прилетевший бомбить соседнюю батарею. По чьему-то недосмотру артиллеристы оказались неподалеку от медсанбата, в семи километрах от переднего края. Ососков ходил к пушкарям выяснять отношения, ругался, но те и бровью не повели. Вскоре ударили с новых позиций по немцам, их быстренько засекла воздушная разведка и вызвала «Юнкерсы». Один из них и принес погибель медсестре Бреньковой.
Тамара лежала в отдельной палатке, где помещалась аптека. Марьяне разрешили отлучиться от раненых, ее подменила новенькая медсестра.
– Небо, – сказала Тамара, – хочу видеть небо… Вынеси меня, Марьяна, на волю.
Вдвоем с начальником аптеки они взялись за носилки, на которых лежала Тамара, вынесли наружу.
– Хорошо, – проговорила Тамара, и голос ее прервался. Она полежала молча и снова зашептала. Глаза ее были закрыты.
– О чем ты, Томочка, милая? – спросила Марьяна.
– На белом коне, – услышала она, – маршал на белом коне… И музыка, Марьяна, играет… А у меня платье красивое…
«Бредит, – подумала Марьяна, – бредит бедняжка!» Тамара открыла вдруг глаза, они были осмысленными и смотрели на Марьяну с легкой укоризной.
Странное дело, сама Марьяна пребывала сейчас в заторможенном состоянии. Ей бы разрыдаться, заголосить, выплеснуть скорбь наружу, но слишком много вокруг было горя и страданий. И Марьяна загоняла вовнутрь рвущийся наружу крик, который мог бы облегчить ее исстрадавшуюся и не пожелавшую окаменеть душу.
– Маршал, – донесся до Марьяны шепот умирающей, – маршал приехал… на белом коне.
До слуха Марьяны донесся непривычный шум двигателя, она подняла голову и увидела: меж сосен остановился на дороге бронетранспортер, за ним грузовик с бойцами в кузове. Бойцы спрыгнули и растянулись цепью вокруг бронированной машины, оттуда вышли командиры, к ним уже бежал, спотыкаясь, комбат Ососков. Добежав до группы, Ососков принялся было докладывать, но один из прибывших махнул, все повернулись и пошли в сторону. И вдруг командир, невысокого роста, в темной бекеше с коричневым воротником и такого же каракуля невысокой папахе, глянул в Марьянину сторону, и та узнала в нем Ворошилова.
– Тамара, Тамара, – горячо зашептала она, склонясь к уху подруги, – погоди немножко! Не умирай, милая… К нам Ворошилов приехал! Понимаешь? Климент Ефремович сам!
Тамара закрыла глаза, вздрогнула вдруг, вытянулась, лицо затвердело, улыбка попыталась исчезнуть, но тень ее сохранилась.
41В эту февральскую ночь 1942 года Сталину не спалось. Он вообще плохо спал по ночам, потому и сместил собственный отдых на утренние часы. Впрочем, и сейчас было раннее утро. Но в это время Сталин обычно уже спал, и вся страна, вернее сказать, руководящая ее часть позволяла и себе прикорнуть в специально оборудованных комнатах.
Справедливости ради надо сказать, что эта традиция – смещать дневное время на ночь – возникла еще до того, как Сталин превратился в существо высшего порядка. Не спали по ночам в первые дни Октябрьского переворота, недели и месяцы становления советской власти, в тревожном ожидании Брестского мира, в архитрудную эпоху военного коммунизма. Позднее, когда Ленин приступил к созданию хозяйственных основ государства, Председатель Совнаркома неоднократно возвращался к проблеме нормального ритма деятельности партийного и советского аппарата. Но выкорчевать до конца привычки военного коммунизма, а иных у взявших власть партийцев, увы, не было, Ленину не удалось.

