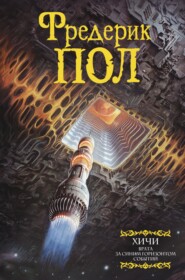
Полная версия:
Врата. За синим горизонтом событий

Фредерик Пол
Врата
За синим горизонтом событий
Сборник
Frederik Pohl
GATEWAY
BEYOND THE BLUE EVENT HORIZON
Перевод с английского А. Грузберга
Художник С. Неживясов
Печатается с разрешения Curtis Brown Ltd.
and Synopsis Literary Agency.
Серия «Мастера фантазии»
© Frederik Pohl, 1976, 1977, 1980
© Перевод. А. Грузберг, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
* * *Врата
1
Меня зовут Робинетт Броудхед, но, вопреки своему имени, я мужчина. Мой домашний психоаналитик – я зову его Зигфрид фон Психоаналитик, хотя у него вообще нет имени, потому что он всего-навсего компьютерная программа – по этому поводу получает немало электронного удовольствия.
– Почему вас беспокоит, что некоторые считают ваше имя женским, Боб? – интересуется он.
– Меня это не беспокоит, – бодро отвечаю я.
– Тогда почему вы постоянно об этом твердите?
Он раздражает меня, напоминая о том, что я частенько завожу разговор о своем имени. Я смотрю на потолок с подвешенными мобилями и светильниками, потом в окно. Но на самом деле это не окно, а движущаяся голограмма прибоя на мысе Каена.
Программа Зигфрида фон Психоаналитика очень эклектична, и это частенько заводит меня в тупик. Спустя немного времени я говорю ему:
– Меня так назвали родители, и с этим я ничего не могу поделать. Когда я представляюсь Р-О-Б-И-Н-Е-Т-Т, остальные обязательно произносят мое имя неверно.
– Но вы же знаете, что его можно поменять?
– Если это сделать, – отвечаю я, будучи абсолютно уверен, что прав, – ты заявишь, что у меня навязчивое желание защитить свои внутренние дихотомии.
– На самом деле я скажу, – возражает Зигфрид со своим тяжелым механическим юмором, – что вам совсем не обязательно использовать специальные психоаналитические термины. Я был бы благодарен, если бы вы просто сообщили, что чувствуете.
– Я чувствую, что вполне счастлив, у меня никаких проблем, – в тысячный раз терпеливо отвечаю я. – Да и почему бы мне не быть счастливым?
Так мы часами играем словами, и мне это не очень нравится. Мне кажется, что в его программе заложена какая-то ошибка.
– Скажите мне, Робби, почему вы несчастны? – снова обращается он ко мне. Я ничего не отвечаю, но он упорно настаивает на своем: – Я думаю, вы чем-то обеспокоены.
– Вздор, Зигфрид, – отмахиваюсь я, испытывая легкое отвращение к этому занудному детищу научно-технического прогресса, – ты всегда пристаешь ко мне с этим дурацким вопросом. Меня ничто не беспокоит.
– Нет ничего плохого в том, что ты признаешься, как себя чувствуешь, – вкрадчиво продолжает он.
Я снова смотрю в окно и сержусь, потому что по непонятной причине начинаю дрожать.
– Ты мне надоел, Зигфрид, понимаешь? – наконец грубо заявляю я.
Он что-то отвечает, но я уже не слушаю. Сижу, гадаю, зачем я трачу здесь свое драгоценное время. Если на Земле и есть человек, имеющий все основания, чтобы чувствовать себя счастливым, то этот человек я – Робинетт Броудхед. Я достаточно богат и хорошо выгляжу. Не стар, к тому же у меня Полное медицинское обслуживание. Так что в последующие пятьдесят лет я могу быть любого возраста – по выбору. Живу я в Нью-Йорке под Большим Пузырем – такое может позволить себе только очень богатый и к тому же известный человек. У меня имеются летние апартаменты, выходящие на Тапаново море и на плотину Палисейдс. К тому же все девушки буквально сходят с ума из-за моих трех браслетов – «вылетов». Ведь на Земле не так много старателей, и даже в Нью-Йорке. Поэтому все дико хотят услышать мой правдивый рассказ о том, что там на самом деле в туманности Ориона или в Большом Магеллановом Облаке. Разумеется, я никогда не посещал ни один из этих галактических «курортов». А о том единственном интересном месте, где все же побывал, я не люблю говорить.
– Если вы действительно счастливы, – выждав положенное количество микросекунд, снова заводит свою шарманку Зигфрид, – зачем вы приходите сюда за помощью?
Терпеть не могу, когда он задает этот идиотский вопрос, на который я и сам не могу ответить. Поэтому я молчу, ежусь на матраце из пластиковой пены и пытаюсь снова занять удобное положение. Чувствую, что сеанс предстоит долгий и мерзкий. Ведь если бы я знал, почему мне нужна психотерапевтическая помощь, я бы никогда не обратился к психотерапевту, тем более такому.
– Роб, что-то вы сегодня неразговорчивы, – говорит Зигфрид в маленький микрофон в голове матраца. Иногда для общения со мной он использует очень жизнеподобный манекен, который сидит в кресле, постукивает карандашом по подлокотнику и время от времени насмешливо улыбается. Но я ему сказал, что нервничаю из-за этого. – Почему бы вам просто не поделиться со мной, о чем вы думаете?
– Я ни о чем особенном не думаю, – вздохнув, отвечаю я.
– Расслабьтесь. Говорите все, что придет вам в голову, Боб.
– Я вспоминаю… – говорю я и замолкаю.
– Что вспоминаете, Робби?
– Врата? – неуверенно произношу я.
– Это скорее вопрос, чем утверждение, – с легкой учительской укоризной в голосе говорит Зигфрид.
– Может, так оно и есть. Ничего не могу поделать. Именно это я и вспоминаю – Врата.
У меня есть все основания никогда не забывать Врата. Там я заработал свое состояние, браслеты и все остальное. Я вспоминаю тот день, когда покинул Врата. Это был, если не ошибаюсь, 31-й день 22-й орбиты. Значит, отсчитывая назад, шестнадцать лет и несколько месяцев с того момента, как я оставил Землю. Тридцать минут спустя после того, как меня выписали из больницы, я получил деньги, сел на корабль и улетел. Я не мог ждать больше ни минуты.
– Пожалуйста, Робби, говорите вслух, о чем вы думаете, – вежливо пристает Зигфрид.
– Я думаю о Шикетее Бакине, – отвечаю я.
– Да, вы упоминали его имя, помню. А что же вы думаете о нем?
Я не отвечаю. Старый безногий Шикетей Бакин жил в соседней комнате, но я не хочу обсуждать это с Зигфридом. Я корчусь на своем круглом матраце, думая о Шики и стараясь не заплакать.
– Вы, кажется, расстроились, Боб, – участливо интересуется Зигфрид.
На это я тоже предпочитаю не отвечать. Шики был единственным человеком, с которым я попрощался на Вратах, и это казалось мне странным. В наших статусах была большая разница. Я, как-никак, старатель, а Шики всего лишь мусорщик. Ему платили ровно столько, чтобы обеспечить плату за проживание, потому что Шики выполнял грязную работу. Ведь даже на Вратах кто-то должен был убирать мусор. Он, конечно же, понимал, что рано или поздно станет слишком старым и больным даже для этой работы. Тогда, если бы Шики повезло, его просто выбросили бы в космос и он там преспокойно умер бы. А если бы не повезло, его, возможно, отправили бы обратно на планету. Здесь бы он тоже умер, и очень скоро, но вначале несколько недель прожил бы беспомощным калекой.
Во всяком случае, Шикетей Бакин был моим соседом. Каждое утро он с трудом вставал и тщательно вычищал каждый квадратный дюйм своей каморки. Она очень быстро становилась грязной, потому что даже на Вратах у нас никогда не было недостатка в мусоре, и это несмотря на все попытки от него избавиться. Вычистив все, даже основания маленьких кустиков, которые он с трудом вырастил своими руками, Шики брал обломки пластиковых упаковок, бутылочные крышки, клочки бумаги и снова разбрасывал там, где только что прибрался. Мне это казалось забавным, хотя я никогда не мог понять, для чего он это делает. Но Клара говорила… Клара говорила, что понимает его.
– Боб, о чем вы только что думали? – спрашивает Зигфрид. Я сворачиваюсь клубком и что-то бормочу. – Я не разобрал, что вы только что сказали, Робби.
Я молчу и размышляю, что стало с Шики. Вероятно, он уже давно умер. И вдруг мне становится невыносимо грустно от смерти Шики и мне снова хочется плакать. Но я не могу. Я лишь корчусь и извиваюсь как змея. Бьюсь о пенопластовый матрац, пока не начинают протестующе скрипеть удерживающие меня ремни. Ничего не помогает. Боль и стыд не уходят. А я мазохистски доволен собой, доволен тем, что стараюсь изгнать эти чувства, но у меня не получается, и отвратительный сеанс продолжается.
– Боб, вам требуется слишком много времени для ответа, – продолжает приставать Зигфрид. – Вы что-нибудь утаиваете?
– Что за нелепый вопрос? – с благородным негодованием отвечаю я. – Если бы что-то скрывал, я бы об этом знал. – Я снова замолкаю и тщательно обследую каждый уголок своего мозга в поисках того, что утаил от Зигфрида. Но не нахожу ни одной мало-мальски достойной мысли, которую мне хотелось бы скрыть от этого зануды. – Кажется, ничего нет, – наконец отвечаю я. – Во всяком случае, я не чувствую, что о чем-то умышленно умалчиваю. Скорее хочу сказать так много, что не знаю, с чего начать.
– Начинайте с любого, Робби. Первое, что приходит в голову.
Это кажется мне глупым. Откуда мне знать, что первое, а что последнее, когда в голове все перемешалось? Отец? Мать? Сильвия? Клара? Или бедный Шики, пытающийся передвигаться без ног? Он порхал, точно ласточка в амбаре, которая охотится за насекомыми, – так Шики ловил мусор в воздухе Врат.
Я постоянно касаюсь тех мест в собственном сознании, которые причиняют мне страдания. По предыдущему опыту я знаю, что будет больно. Примерно так же я себя чувствовал в семь лет, когда бегал по Скальному парку вместе с другими детьми и пытался обратить на себя внимание. Или когда мы оказались вне реального пространства и поняли, что попали в ловушку, а из ничего появилась призрачная звезда, улыбаясь, как Чеширский кот. У меня сотни таких воспоминаний, и все они причиняют боль. Да, это так. Они само воплощение боли. В указателе моей памяти против них написано «Болезненно». Я знаю, где отыскать их, и помню, как бывает плохо, когда они всплывают на поверхность. Но пока я держу их взаперти, они не причиняют мне страданий.
– Я жду, Боб, – говорит Зигфрид.
– Думаю, – отвечаю я.
И тут мне приходит в голову, что я опаздываю на урок музыки. Воспоминание о том, что я учусь играть на гитаре, напоминает мне еще о чем-то, и я смотрю на пальцы левой руки, проверяю, не отросли ли ногти – мне хотелось бы, чтоб мозоли стали больше и тверже. Я не очень хорошо играю на гитаре, но большинство моих постоянных слушателей либо не слишком критичны, либо жалеют меня, а я получаю удовольствие от самого процесса. Правда, чтобы поддерживать нужную форму, требуется все время упражняться и помнить кучу вещей. «Сейчас посмотрим, – думаю я, – как перейти от фа-мажор к соль на седьмой струне».
– Боб, – настойчиво обращается ко мне Зигфрид, – сеанс оказался не очень продуктивным. Осталось десять-пятнадцать минут. Почему бы вам не сказать мне первое, что придет в голову… прямо сейчас?
Первое я отвергаю с порога и говорю второе:
– Первое, что приходит мне в голову, я вспоминаю, как плакала мать, когда погиб отец.
– Не уверен, что это на самом деле было первым, Боб, – с сомнением говорит он. – Позвольте высказать предположение. Первая ваша мысль была о Кларе.
В груди у меня все сжимается, дыхание перехватывает. Неожиданно передо мной возникает образ Клары, какой она была шестнадцать лет назад, и ни на час старше… И тогда я произношу:
– Кстати, Зигфрид, я думаю, что хочу поговорить о своей матери, – произношу я и позволяю себе вежливый примирительный смешок. При этом Зигфрид не вздыхает покорно, он молчит так многозначительно, что создает то же впечатление. – Понимаешь, – начинаю объяснять я, тщательно обходя все не относящееся к этой теме, – она хотела после смерти отца снова выйти замуж. Не сразу, конечно. Не хочу сказать, что она обрадовалась его смерти или что-нибудь такое. Нет, она его любила. Но теперь я понимаю, что она была здоровая молодая женщина – очень молодая. Сейчас подумаем… ей было тридцать три. И если бы не я, она, конечно, вышла бы замуж. Меня до сих пор мучает чувство вины, ведь я не дал ей вторично создать семью. Я пришел к ней и сказал: «Мама, тебе не нужен мужчина. Я буду мужчиной в семье. И я о тебе позабочусь». Но, конечно, это были только слова глупого мальчишки. Мне тогда было пять лет.

– Мне кажется, вам было девять, Робби.
– Да? – не очень искренне удивился я. – Сейчас подумаем. Зигфрид, кажется, ты прав… – Я стараюсь проглотить большой комок, образовавшийся в горле, давлюсь и начинаю кашлять.
– Скажите, Робби, – упорно настаивает Зигфрид, – что вы на самом деле хотели сказать?
– Будь ты проклят, Зигфрид!
– Давайте, Робби! Говорите.
– Что говорить? Боже, Зигфрид! Ты меня прижал к стене. Этот вздор никому не приносит пользы.
– Боб, пожалуйста, ответьте, что вас беспокоит?
– Заткни свою грязную жестяную пасть! – взрываюсь я. Вся боль, от которой я так старательно уходил, вырывается наружу, и у меня нет силы с ней справиться.
– Боб, я предлагаю, чтобы вы попытались…
Я бьюсь о ремни, вырываю клочья пены из матраца и истошно реву:
– Заткнись! Я не хочу тебя слушать! Я не могу с этим справиться, неужели не понятно? НЕ могу! НЕ могу справиться!
Зигфрид терпеливо дожидается, пока я не перестану плакать, что происходит совершенно неожиданно. И тут, прежде чем он успевает что-то вымолвить, я устало заявляю:
– Дьявол, Зигфрид, все это ничего не дает. Я думаю, что нам следует прекратить. Наверно, есть люди, которым твои услуги нужны больше, чем мне.
– Что касается остальных моих клиентов, – отвечает он, – то я с ними встречаюсь в назначенное время. – Я вытираю слезы бумажным полотенцем и ничего не отвечаю. – Думаю, мы еще можем кое-чего достичь, – продолжает он. – Но решать, будем ли мы продолжать сеансы или нет, должны вы.
– Есть в восстановительной комнате что-нибудь выпить? – спрашиваю я его.
– Это совсем не то, о чем вы думаете. Но мне говорили, что на верхнем этаже этого здания очень хороший бар.
– Что ж, – говорю я, – тогда мне непонятно, что я тут делаю.
Пятнадцать минут спустя, подтвердив сеанс на следующую неделю, я пью кофе в восстановительной комнате Зигфрида и прислушиваюсь, не начал ли рыдать его следующий пациент, но ничего не слышу.
Затем я умываюсь, повязываю шарф, приглаживаю вихор на голове и поднимаюсь в бар. Официант давно знает меня и провожает к столику, выходящему на юг, к нижнему краю Пузыря. Он взглядом показывает на высокую медноволосую девушку. Она сидит в одиночестве за столиком, но я отрицательно качаю головой. Выпивая, я восхищаюсь ногами медноволосой девушки и думаю о том, где сегодня поужинать, а потом отправляюсь на урок музыки.
2
Сколько себя помню, я всегда хотел стать старателем. В шесть лет отец и мать взяли меня на ярмарку в Чейни. Горячие сосиски и воздушная соя, разноцветные шары, наполненные водородом, цирк с собаками и лошадьми, колесо счастья, игры, прогулки. И еще надувная палатка с непрозрачными стенами, вход стоит доллар, и там выставка предметов из туннелей хичи, найденных на Венере. Молитвенные веера и огненные жемчужины, зеркала из настоящего металла хичи, и все это великолепие можно было купить по двадцать пять долларов за штуку. Папа тогда сказал, что они не настоящие, но для меня они были самыми что ни на есть подлинными. Впрочем, мы не могли себе позволить заплатить двадцать пять долларов за такой сувенир. Да если подумать, я и не нуждался в зеркале. Лицо у меня было в веснушках, зубы выступали вперед, а волосы, которые я зачесывал, сзади были перевязаны резинкой.
Тогда только что обнаружили Врата, и я помню, как по пути домой в аэробусе папа говорил об этом. Они думали, что я сплю, но меня разбудила какая-то неизбывная тоска в его голосе. Из их разговора я понял, что если бы не мама и я, он нашел бы возможность отправиться туда. Но такой возможности у него не было.
Год спустя отец погиб, и я унаследовал от него работу, как только достаточно подрос.
Не знаю, работали ли вы когда-нибудь на пищевых шахтах, но, конечно же, не раз слышали о них. В этой работе нет ничего привлекательного. Уже в двенадцать лет я начал трудиться с половины рабочего дня и соответственно за половинную плату. К шестнадцати у меня был статус отца – сверловщик шпуров: хорошая оплата и трудная работа. Но на самом деле заработок лишь считался хорошим. Для Полной медицины его не хватало. Этих денег недостаточно было даже для ухода из шахты, а потому мои финансовые успехи выглядели значительными лишь там, где я работал. Шесть часов вкалываешь и десять отдыхаешь. Затем восемь часов сна, и ты снова на ногах, а вся одежда насквозь провоняла сланцем. Курить можно было только в специально отведенных помещениях. Всюду на пищевых шахтах господствовал жирный маслянистый туман. А девушки, которые трудились вместе с нами, тоже пропахли и тоже были невероятно измучены работой.
Мы все жили примерно одинаково: много работали, отбивали друг у друга женщин, играли в лотерею и много пили того дешевого крепкого пойла, что делалось в десяти милях от нас. Иногда на бутылке была этикетка шотландского виски, иногда водки или бурбона, но все эти напитки делались из одних и тех же шламовых колонн и разливались в разные бутылки из одной цистерны. Я ничем не отличался от остальных работяг… и только однажды выиграл в лотерею. Это был мой выездной билет.
Но до этого я просто жил.
Моя мать тоже работала на шахте. После гибели отца во время взрыва в штольне она вырастила меня с помощью шахтных яслей. Мы с ней нормально ладили, пока у меня не произошел первый психотический срыв. Мне тогда было двадцать шесть. У меня начались неприятности с девушкой, а потом я по утрам просто не мог подняться и меня увезли в больницу. Там я провалялся больше года, а когда меня выпустили из бокса, мать уже умерла.
Это моя вина. Нет, я не хочу сказать, что планировал ее смерть. Я имею в виду, что она жила бы, если бы так не тревожилась обо мне. На лечение нас обоих просто не хватало средств. Мне нужна была психотерапия, а ей новое легкое. Она его не получила и умерла.
После смерти матери мне ненавистна стала наша квартира, правда, выбор у меня был небольшой: либо оставаться в ней, либо переселяться в общежитие для холостяков. А мне совсем не нравилась мысль о жизни по соседству с таким количеством самых разных людей. Конечно, я мог жениться, но не сделал этого. Сильвия, девушка, с которой у меня были неприятности, к этому времени бесследно исчезла. Но я вовсе не был против брака. Может, вы решите, что я испытывал трудности из-за своих психиатрических вывихов или из-за того, что так долго жил с матерью? Это не так – мне очень нравились девушки. Я был бы счастлив жениться на одной из них и растить ребенка.
Но только не в шахтах.
Я не хотел оставлять сыну то, что унаследовал от отца. Сверлить шпуры для зарядов – очень тяжелая работа. Сейчас для этого уже используют паровые факелы с нагревательными спиралями хичи, и сланец вежливо расходится, как парафин. Но тогда мы по старинке сверлили и взрывали. Спускаешься в шахту в скоростной клети и начинаешь свою смену. Стена шахты, скользкая и вонючая, движется мимо со скоростью шестьдесят километров в час всего в десяти дюймах от твоего плеча. Я видел, как один подвыпивший шахтер протянул руку к стене, и вместо кисти у него остался обрубок.
Спустившись на самое дно шахты, выбираешься из клети и еще километр или больше скользишь по дощатому настилу к забою. А уж там сверлишь стену, затем устанавливаешь заряды и прячешься в каком-нибудь тупичке. Потом, дожидаясь взрыва, молишь Бога, чтобы все было рассчитано правильно и вся эта вонючая маслянистая масса не обрушилась тебе на голову. Если же ты ошибся и тебя погребло заживо, ты можешь прожить в сланце неделю. Такое бывало. Если человека не успевали извлечь в первые три дня, он больше ни к чему не был пригоден. Потом, когда все прошло благополучно, начинаешь увертываться от погрузчиков по пути к следующему забою.
Говорят, маски задерживают большую часть углеводорода и скальной пыли. Но вонь они точно не задерживают. И, честно говоря, я не уверен насчет углеводорода. Моя мать не единственная работница шахты, нуждавшаяся в новом легком. И конечно, не единственная, кто не сумел за него заплатить.
А когда смена окончена, куда же тебе деваться? Естественно, отправляешься в бар. Ближе к ночи прихватываешь с собой девушку и ведешь домой. Или играешь в карты, смотришь телевизор.
Выходить из дома приходилось нечасто. Да мы и не очень-то стремились, поскольку мест для прогулок почти не было, если не считать нескольких крошечных парков, на которых постоянно подсаживали растения. Кстати, в Скальном парке есть даже живые изгороди и газон. Бьюсь об заклад, вам не приходилось видеть газон, который каждую неделю моют стиральным порошком, а затем просушивают горячим воздухом, чтобы он не погиб. Парки мы в основном оставляли детям.
Ну а кроме парков, мы имели только поверхность Вайоминга, которая, насколько хватает глаз, выглядит как поверхность Луны. Нигде никакой зелени, ничего живого. Ни птиц, ни белок, ни насекомых. Несколько грязных болотистых ручьев, почему-то ярко-красных и под толстой маслянистой пленкой. Говорят, нам еще повезло: у нас шахты. В Колорадо, где открытые разработки, гораздо хуже.
Мне всегда трудно было в это поверить, да и сейчас нелегко, но я никогда не проверял.
Помимо всех этих прелестей мы имели непроходящую вонь, висящую в воздухе пыль да оранжево-коричневый закат в сизой дымке. Весь день и всю ночь несмолкаемый рев печей, которые беспрестанно перемалывают и пережигают мергель, чтобы извлечь из него кероген, и грохот конвейеров, которые где-то нагромождают отработанный материал.
Видите ли, чтобы получить нефть, приходится нагревать камень. Когда его нагреешь, он расширяется, как воздушная кукуруза. И девать его некуда. Его нельзя затолкать обратно в шахту – слишком много. Когда добываешь гору мергеля и извлекаешь из него нефть, остается два террикона отходов. Так с ним и поступают. Воздвигают все новые и новые горы. А избыточное тепло от экстракторов нагревает теплицы, и на нефти прорастает плесень. Затем ее снимают, просушивают, спрессовывают… и на следующее утро мы едим ее на завтрак.
Забавно. Говорят, в старину нефть просачивалась прямо на поверхность земли. И люди приезжали в автомобилях и поджигали ее.

Прямо из заброшенных туннелей Венеры!
Редкие культовые предметы
Бесценные жемчуга,
принадлежавшие исчезнувшей цивилизации.
Поразительные научные открытия
ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОДЛИННОСТЬ
КАЖДОГО ПРЕДМЕТА!
Скидка для учащихся и студентов
ЭТИ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ
СТАРШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
Впервые по доступным ценам
Взрослые – $2–50, дети – $1–00
Дельберт Кайн, доктор философии,
старатель

Зато по телевидению постоянно идут передачи, рассказывающие, как важна наша работа, как весь мир зависит от нашей пищи. Это верно. Нам не нужно об этом напоминать. Если мы перестанем работать, в Техасе начнется голод и заболеют дети в Орегоне. Мы все это знаем и ежедневно добавляем к мировому рациону пять триллионов калорий, половину протеина для примерно одной пятой населения Земли. Это все из дрожжей и бактерий, которые выращиваются на вайомингской сланцевой нефти, а также в Юте и Колорадо. Мир нуждается в этой пище. Но нам это стоило почти всего Вайоминга, половины Аппалачей, большей части смолистых песков Атабаски… Вот только что станут делать люди, когда последние капли углеводорода превратятся в дрожжи?
Конечно, это не моя проблема, но я о ней часто думаю.
Жизнь моя кардинально переменилась, когда я выиграл в лотерею. Произошло это на следующий день после Рождества. В том знаменательном для меня году мне исполнилось двадцать шесть.
Я выиграл двести пятьдесят тысяч долларов. Этой суммы было достаточно, чтобы по-королевски прожить целый год. У меня появилась возможность жениться и содержать семью, но при условии, если мы оба будем работать и не станем слишком много тратить.
А еще на эти деньги можно было купить билет в один конец до Врат, и, не особо раздумывая, я отнес деньги в туристическое агентство. Там мне страшно обрадовались. Похоже, у них было не слишком много клиентов.
После того как я заплатил за билет, у меня оставалось примерно десять тысяч долларов. Я не считал, сколько именно. На прощание купил выпивку всей своей смене, а это примерно пятьдесят человек. К тому же к бесплатной выпивке присосалось много посторонних, и пирушка продолжалась двадцать четыре часа.

