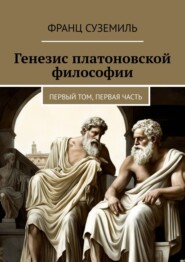скачать книгу бесплатно
Генезис платоновской философии. Первый том, первая часть
Франц Суземиль
Платон через свои диалоги, помогает нам увидеть эволюцию философской мысли и ее влияние на формирование образования и культуры. Изучение его работ позволяет нам проникнуть в суть древнегреческой философии и почувствовать дух времени, в котором жил великий ученый. Таким образом, анализ диалогов Платона открывает перед нами не только глубины его мысли, но и широкий спектр вопросов, касающихся образования, культуры и философии в целом.
Генезис платоновской философии
Первый том, первая часть
Франц Суземиль
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Франц Суземиль, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0062-5177-9 (1-1)
ISBN 978-5-0062-5178-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Франц Суземиль
Ф. Суземель изучал древние языки в Лейпциге и Берлине и с 1848 года преподавал в Домгимназии в Гюстрове. В 1852 году он получил квалификацию в Грайфсвальдском университете, где в 1863 году стал профессором классической филологии. В 1875—76 годах он был ректором университета. Суземиль широко известен своими работами о Платоне и Аристотеле. Среди его лучших работ – « Die genetische Entwickelung der platonischen Philosophie» («Генетическое развитие платоновской философии», 1855—1860) и трактат по истории александрийской литературы под названием « Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit» (1892). Суземиль умер 30 апреля 1901 года во Флоренции, Италия.
Предисловие
Воодушевленный одобрением, каким был встречен мой «Продромус[1 - От греч. prodromos – предвестник] платонических исследований», теперь я передаю публике первую часть более полного исследования, и прежде всего считаю своим долгом заявить, что мои взгляды на порядок платоновских сочинений теперь значительно приблизились к взглядам знаменитого классика, чье имя я позволил себе поставить во главе этой работы именно по этой причине. Там, где я отклоняюсь от него, я в любом случае буду отмечен в соответствующем месте, но компиляция всех ранее предполагаемых последовательностей отложена до конца второго тома. Поэтому здесь я лишь подчеркну, что, как мне кажется, я уже могу доказать тесную систематическую связь между самыми ранними платоновскими произведениями, в то время как Германн предполагает то же самое только среди более поздних.. На это указывают намеки самого Платона, и мне кажется вовсе не вынужденным, а скорее очень естественным, что ум, стремящийся к систематическому образованию, должен с самого начала связывать свои дальнейшие исследования в каждой последующей работе с результатами предыдущей работы или работ, благодаря которым только и может быть достигнуто такое образование. Однако верно лишь то, справедливо подчеркивает Германн, что с того момента, когда Платон таким образом нашел учение об идеях, будущие исследования, которые еще предстоит отложить, уже ясны ему, по крайней мере в своих очертаниях, так что с этого момента действительно возникает та точка зрения, которую Шлейермахер ошибочно приписывает всем своим произведениям и согласно которой дальнейший прогресс в большей степени подпадает под представление, чем под его собственное изобретение. Но как мало можно исключить из его ранних произведений вторичную интенцию представления, восходящего от низшего к высшему, так как уже сократовская, а не специфически платоновская идея связывать прогресс собственного знания с общением; так же много, с другой стороны, Платон всегда оставался становящимся, потому что точно невозможно когда-либо прийти к выводу с неверной или односторонней целью, например, к максимально возможному устранению всякого становления, которое он замышлял. Становление, которое он отверг, отомстило ему. Проследить развитие этих двух точек зрения по отношению друг к другу – это часть генезиса платоновской философии; только обе они отчасти так непосредственно сливаются, что мне кажется, что полное разделение здесь невозможно.
Если вся эта точка зрения верна, то из нее также следует, как мне кажется, что часто оспариваемое Шлейермахером положение о том, что исследования подлинности произведений должны идти рука об руку с исследованиями их последовательности, вполне справедливо. Ведь если, согласно указаниям самого Платона, мы находим в серии этих диалогов прочно замкнутую цепь, то те, которые не хотят в нее вписываться, либо с самого начала будут отнесены к чужому происхождению, либо окажутся просто эпизодическими сочинениями. Конечно, странно, как широко часто расширяется понятие последнего, и все же должно быть очевидно, что – кроме писем – только три произведения, дошедшие до нас из платоновских рощ, заслуживают такого названия: «Апология Сократа», " Критий» и «Менексен». Но только первые два примера говорят нам о том, что Платон сам использовал подобные сочинения для своего философского развития, и можно было бы почувствовать искушение объявить несостоятельным даже «Менексен», в котором этого нет, если бы его не спасало внешнее свидетельство Аристотеля, для уклонения от которого никто из тех, кто не связал себя таким свидетельством, до сих пор не привел ни одной веской причины. Для моих целей, однако, я не могу использовать это небольшое обсуждение; возможно, я займусь им в приложении ко второй части. Там же или в другом месте мы поговорим о других произведениях, носящих имя Платона и не являющихся звеньями этой цепи, что, кстати, не означает отрицания того, что для однозначного вывода потребуются и другие признаки их неподлинности.
Кстати, я не хочу, чтобы название моей книги вызывало большие или даже иные ожидания, чем те, которые она сможет удовлетворить. Я не скрываю от себя, что ей скорее будут присущи все недостатки первой попытки, что она будет содержать скорее исследование в более широком масштабе, чем целостную картину, скорее ориентацию науки на современную точку зрения платоновских исследований в этом направлении, чем окончательное решение поставленных ею вопросов, более того, только исчерпывающее и правильное их раскрытие. Прежде всего, поэтому я был бы очень рад, если бы мой взгляд на отношение становления к бытию у Платона и на положение «Федра» в ряду произведений был бы основательно исправлен, ибо я охотно признаюсь, что в отношении этих двух пунктов у меня отнюдь не все сомнения. Именно тем, что я все еще нахожусь больше, чем над этим вопросом, объясняется выбранная мною форма изложения, которая может показаться некоторым слишком резкой, но которая была необходима мне для того, чтобы позволить, так сказать, генетическому развитию платоновской философии возникнуть генетически самой по себе. Я сначала собираю отдельные строительные блоки и пытаюсь показать, как они должны быть подогнаны друг к другу наиболее целесообразным образом, поскольку, как мне кажется, в настоящее время, когда еще так много предстоит сделать для отдельных исследований, другого пути нет. Но то, чего здесь еще не хватает, можно с уверенностью определить только после того, как будет сделана попытка составить целое из отдельных частей, как они были расположены до сих пор, и именно этой попытке я обязан, если мне удалось пролить более ясный свет на некоторые из отдельных частей, чем это было до сих пор. Я оставляю более удачливому преемнику, в котором не будет недостатка, когда придет время, систематически расчленить уже завершенную общую структуру. Другой, более справедливый упрек может быть направлен на неравномерность в изложении чужих взглядов на каждое произведение, поскольку иногда я составлял их подробно, а иногда довольствовался ссылками на компиляции, уже сделанные в моем Prodromus, частично другими, частично самим собой, и добавлял только то, чего не хватало.
Однако, отчасти объем моего труда уже превысил желаемые размеры, а отчасти мне не хотелось увеличивать и без того неизбежные многочисленные заимствования из других сочинений; поэтому я включил в свой труд только те сборники, где точка зрения, которой я руководствовался в них, отличалась от точки зрения других. Я должен сожалеть, что в моем стремлении полностью использовать новейшую литературу французский перевод Швальбе был доступен мне только в цитатах из Штейнгарта, и что «История теоретической философии греков» Штрюмпеля стала известна мне только после того, как печатание моей книги было почти завершено; поэтому я оставляю обсуждение его изложения Платона для другого случая и только отмечаю здесь, что я не был введен им в заблуждение в моем часто расходящемся взгляде. Благодарность, которую я должен выразить своим предшественникам, лучше всего подтверждается моим собственным сочинением. Вторая его часть появится, как только я смогу.
Наконец, пользуясь этой возможностью, я хочу публично выразить свою признательность двум людям, чья активная поддержка в свое время позволила мне завершить обучение. Для одного из них, бывшего землевладельца Погге-ауф-Роггоу, эта благодарность, разумеется, лишь скудный листок в венке смерти, не лишенном богатого изобилия подобных листьев; другой – мой дядя, великогерцогский мекленбургский подполковник (в отставке) В. Зюльсторф.
После проникновенных исследований К. Ф. Германа, в частности, кажется, постепенно растет согласие в том, что система Платона отнюдь не была законченной и завершенной, когда он начал свою литературную деятельность, а скорее развивалась из небольших зачатков в ходе нее. Но как это развитие в деталях передается в его сочинениях, какой этап в этом развитии обозначает каждое из его произведений, какой духовный акт совершается в каждом из них, чтобы привести целое к завершению, короче говоря, как каждое органически вырастает из другого, все еще кажется совершенно неясным. Одним словом, до сих пор развитие философа было более важным, чем развитие его философии.
Но пока все остается так, как есть, будет существовать множество очевидных аргументов против уже полученных результатов. В частности, есть один момент, по которому я сам не могу согласиться с Германом. Ведь, как мне кажется, неоспоримо, что Платон ни в коем случае не был незнаком с более ранними системами при жизни Сократа, и что научный мотив его поздних путешествий следует искать не в отсутствии философских трудов и даже не во всех возможностях устного обучения более древним системам в Афинах того времени. Однако наиболее значимые их представители жили за его стенами, и одного этого было достаточно, чтобы определить его решение, учитывая то предпочтение, которое Платон, как известно, отдавал устному обучению с целью живого и глубокого проникновения в суть дела перед письменным. Во-первых, что касается элеатской доктрины, то уже из сочинений самого Платона ясно, по крайней мере, что у Зенона был друг и последователь в лице афинянина Федора в эпоху Сократа[2 - Pannen, p. 126 B. C. vgl. Aleib. I. p. 119 A.], так что уже тогда не могло быть недостатка в возможности познакомиться с его философией. Но, более того, старший одноклассник Платона Эвклид во время знакомства с Сократом еще изучал «эристику» (???? ?????????? ??????), то есть сочинения элеатов.[3 - Wie aus der Vergleichung von Diog. Laert. II. 30 mit II. 106 her- vorgeht, s. Dcycks De Mcgarievrum doctrina. Bonn 1827. 8. 8. 0.] Таким образом, во-первых, мы имеем явное свидетельство доступности последнего в Афинах, а во-вторых, никто не будет сомневаться, что направление человека, к которому Платон впервые обратился после смерти Сократа, должно было оказать на него значительное влияние и ранее. Но если это так, то Платон не должен был отказываться и от чтения элеатских сочинений. В самом деле, его собственное неоднократное заявление о личной встрече Сократа с Парменидом в юности можно, по крайней мере, интерпретировать как ссылку на юношеское чтение Платона, поскольку он часто дает Сократу знать, что сам читал по слуху или понаслышке. Так же мало можно сомневаться в том, что фиванцы Симмий и Кебес, слушатели пифагорейца Филолая, который затем приехал в Афины, чтобы насладиться обществом Сократа,[4 - Plat. Phaed. p. 50 C. vgl. m. 61 D. Xen. Mom. III, 11, 17.] посвятили Платона в тайны своей школы, даже если труды Филолая действительно стали известны ему лишь позднее.[5 - Между прочим, я не верю, что сомнения моего почтенного учителя Бёкха, Philolaos, Berlin 1810. 8. p. 10 ff. против традиции, согласно которой Пиатон впервые получил это произведение в Италии за большие деньги, были устранены Германом, Geschichte und System der platonischen Philosophie I., Heidelberg 1839. 8. p. 108. Anni. 02. Hind. Бёкх, очевидно, не столько определил, что высказывания об этом различаются по второстепенным обстоятельствам, сколько то, что они сходятся в двух бессмысленных главных пунктах, и что из одного из них легко могло вытекать все сообщение, а именно, из вымысла философской тайной лирики пифагорейцев, так что теперь, чтобы очистить Филолая от обвинения в том, что он ее создал, его сочинение не опубликовано, а лишь записано как предназначенное для частного использования и находящееся только в частном владении. Второй момент, однако, заключается в том, что эти традиции делают платоновский «Тимей» формальным плагиатом из этого произведения. Но если Герман, несомненно, отвергает эти два пункта как несущественные, я не вижу, почему Бёкх не должен иметь права пойти дальше и также отбросить как несущественный тот факт, что покупка книг имела место только в Италии, поскольку он не считает эту традицию взятой из воздуха, но ограничивает ее истинную суть тем, что Филолай действительно сначала опубликовал пифагорейское произведение, а Пиатон прочитал его и использовал по-своему, то есть не как копировщик, а остроумно. См. также замечания о Горгии ниже.]
Во всяком случае, весомое свидетельство Аристотеля [6 - Metaph. I, 0. p. 987 a. 32 ff.]подтверждает, что глубокое учение Гераклита не только стало известно ему через «Кратил» раньше, чем самому Сократу, но и сразу же оказало на него длительное влияние. Если теперь можно полностью доказать, что в «Федоне» (с. 96 А – 102 А) он вкладывает в уста Сократа свою собственную историю развития, то приходится даже признать, что он, по-видимому, изучил всех ионийцев, включая Анаксагора, по источникам, прежде чем перейти в школу аттического мастера, как бы ни удивлялись столь обширному изучению в столь ранней юности.
Тем более хочется спросить, не пришлось ли такому быстрому духу, которому Провидение поручило объединить разрозненные направления греческой спекуляции в центре его идей, тем более рано подтвердить свою оригинальность тем, что он непосредственно приложил руку к этой работе, а не просто воспринял ее критически. Надо признать, что влияние Сократа поначалу скорее мешало, чем мешало этому начинанию. Враг всех возвышенных физических и метафизических спекуляций, этот своеобразный человек отзывался о главах старых школ с нескрываемым презрением.[7 - Xen. Mem. I, 1, 14 f. IV, 7, 6 f.]
Но так же мало, как его неприятие демократических форм [8 - Xen. Mem. I, 2, 9.]мешало его самым верным ученикам быть также самыми верными сторонниками демократии,[9 - Ch?rephon, Plat. Apol. p. 21 A.] его преподавание, которое он сам описывал не как отношения учителя с учениками, а как отношения дружбы и любви,[10 - Xen. Mem. I, 2, 3. 7. Symp. VIII, 2. 24. Plat. Apol. p. 33 A. B.] также исключало свободное развитие разноречивых наклонностей в его учениках. И даже если он однажды упрекнул их, как это сделал Эвклид, согласно упомянутому выше Диогену Лаэртскому, этот самый пример показывает, что такой упрек мог остаться совершенно бесплодным, ничуть не повредив чувствам благочестия к любимому учителю. Кроме того, кому покажется правдоподобным, что пифагорейцы Симмий и Кобес, эти проницательные исследователи,[11 - Plat. Phaed. bes. p. 63 A.] позволили убедить себя, что математика, центр пифагорейского учения, должна быть ограничена самыми крайними требованиями практической необходимости![12 - Xen. Mem. IV, 7, 2 f. 8.]
Поэтому можно удивиться, когда выяснится, что Платон, внешне говоря, позволил Антисфену и могарским философам предвосхитить часть его жизненной задачи по преобразованию древних умозрений в свете сократической мысли, поскольку они стремились соединить элеатское Единое с сократической концепцией еще до него.
Но при правильном рассмотрении именно через этот контраст становится понятным особое величие Платона. Если можно предположить, что эти люди пришли к своим результатам благодаря более раннему знакомству с элеатизмом и определенной постоянной привязанности к нему, то Платон, напротив, описывает нам в этом отрывке «Фаэдо» как результат своих ранних исследований полное отсутствие удовлетворения от старых систем, и более того, поэтому он с полной душой погрузился в глубины сократизма, на время отказавшись от всего остального. Таким образом, конечный успех оказался совершенно иным. Хотя сам Платон с благодарностью признает этих людей своими предшественниками, проложившими ему путь, их посредничество между сократизмом и более древними системами отчасти ограничилось одной элеатической, а отчасти даже расширение последней осталось лишь скудным и неэффективным, поскольку они не признали ни полной немощи последней, ни полного объема сократизма. Таким образом, они были для Платона не просто образцами, но и ориентирами, предостерегавшими его от заблуждений, когда темные порывы его гения грозили отклониться от верного пути.
У Платона было только одно положительное достижение из всех его предыдущих начинаний. Если Сократ стремился понять лишь отдельные понятия вещей, но передавал их взаимную внутреннюю связь лишь религиозно, а не философски, помещая ее в целеобразующую деятельность богов, но запрещая рассуждать о чистой сущности божественного, то Платон, напротив, как он сам говорит нам в приведенном отрывке, был движим темным порывом увидеть сущность вещей в понятии. В сущности, это было не что иное, как гениальный дар его натуры, который только усилился в его предыдущих начинаниях, стремление от становления к бытию, от множественности к конкретному единству, которое, похоже, перешло в состояние беспокойного брожения, как он любит описывать его у молодых мыслителей,[13 - Z. B. Theaet. p. 148, E. 155 C. – E. Farmen, p. 130 D.] из-за противоречий, с которыми он сталкивался во всех направлениях в своих предыдущих исследованиях.
Однако, согласно вышеизложенным предпосылкам, эта склонность к систематике могла быть ограничена только результатами сократического философствования, могла ограничиться их внутренним слиянием и углублением. Его диалектический порыв должен был быть удовлетворен этикой, и он мог лишь в очень редких случаях использовать системы старых физиологов, которые до сих пор были объектом его исследований, и только там, где их взглядам можно было придать этический поворот. Поэтому не приходится удивляться тому, что даже о Гераклие он задумался лишь на поздней стадии, а до этого его обычно даже молчаливо не принимали во внимание, даже в тех вопросах, где этого можно было ожидать.
Подлинная причина изоляции сократических концепций заключалась в том, что сократическое философствование было привязано к форме общинности и устности, даже для целей «собственного знания», и поэтому всегда втягивало в свой круг случайные предметы, представляемыеь для рассмотрения. Литературная деятельность Платона уже сама по себе является преодолением этой точки зрения, поскольку позволяет тиксировать разрозненное и тем самым объединить его в сущностное единство. Следует быть осторожным, чтобы не распространить более поздние заявления Платона о его литературной эффективности на его ранние произведения без дальнейших рассуждений. Ведь если в «Фаэдре»[14 - p. 275 H. 270 I). 278 A.] он подчиняет их своей устной преподавательской деятельности и ограничивает их кругом уже завоеванной им школы и своим собственным использованием, то в настоящее время у него нет школы и он уже не думает о ее создании для себя, а, скорее, как ученик Сократа, только еще пытается сделать учение последнего доступным для более широких кругов во внутреннем контексте.[15 - Vgl. Nitzseh, De Ptatonis Phaedro commentutio varia. Kiel 1833. 4. bes. S. 19 f., 29 f.] И если извлечь пользу из этих позднейших замечаний, то можно убедиться, что Платон, как истинный Сократист, безусловно, всегда ставил свою литературную деятельность ниже живого устного учения своего учителя.
Если же писание Платона изначально было направлено не на что иное, как на усвоение сократовской мысли, то последняя должна была предстать в нем в своей особой форме, т. е. сократический диалог предстал как внутренняя необходимость, так что нам вовсе не нужно возвращаться к процессу диалектических диалогов Зенона,[16 - Diog. L?ert. III, 47.] не желая прямо отрицать возможное влияние последнего.
Однако стремление к систематике, сведение случайного к существенному еще более обусловило ту художественную форму философского диалога, создателем которой является Платон. А если учесть, что поглощение всех прежних принципов платоновскими идеями, давно признанное жизненной задачей нашего философа, есть не что иное, как просеивание их посредством сократовского учения о понятиях, что само учение об идеях есть лишь результат этого процесса просеивания, нам покажется понятным, что Платон, несмотря на существенные модификации, которые стали необходимы в ходе его развития, сохранил эту форму до глубокой старости, а в целом и Сократа как лидера диалога, потому что она никогда не опускалась и не могла опуститься до полного ничтожества. Более того, платоновская философия всегда сохраняла дух сократовской философии в той мере, в какой она никогда не становилась законченным, объективно самодостаточным сводом знаний, а оставалась личной жизненной деятельностью, стремлением и исследованием, и объективно это можно увидеть только в практическом идеале, в Сократе.[17 - Zeller, die Philosophie der Griechen II. S. 144. von Baur, Sokrates und Christus, T?binger Zeitschr. f?r Theologie 1837. S. 97—121.]
Для первой ступени платоников, однако, возникает странное противоречие между материей и формой. В то время как исторический Сократ предпочтительно развивал понятия эротематически у других или, по крайней мере, представлял свои собственные взгляды только как гипотезы на общее рассмотрение,[18 - Xen. Mem. IV, 0, 13.] он первоначально сохраняет тот же характер собеседника, но писатель, с результатами этих бесед, очевидно, обращается к широкой публике от имени своего учителя в откровенно дидактической манере. И это противоречие лишь усугубляется тем, что Платон подчеркивает «невежество» Сократа так, как никогда не делал сам,[19 - Wenn auch Sokrates im Ganzen nicht Lehrer heissen wollte (Anm. 9), so lehnte er dies doch in Bezug auf einzelne Fragen keineswegs von sich ab (Xen. Mem. I, 6, 14). Jenes soll nur heissen, dass er seine Sch?ler zum Selbstdenkcn anhielt (Xen. Symp. I, 5.).] и как бы серьезно это ни звучало в устах собеседника, в писателе легко услышать иронию, в силу которой это невежество имеет силу лишь в контрасте с предполагаемой мудростью других и тем самым приводит к высшему триумфу Сократа.
Но это противоречие нивелируется тем, что Платон еще не чувствует себя способным представить несколько полное знание, так что можно с самого начала предположить, что невежество его Сократа будет относиться и к нему самому, и что оно, следовательно, будет иметь двойное толкование, одно, если отнести его непосредственно к собеседнику, и другое, в зависимости от того, как отнести его к писателю, который делает его своим органом и, следовательно, также выражением своих собственных состояний. Таким образом, в личности «Сократа» уже присутствует зародыш идеализации, который, конечно, остается почти незаметным до тех пор, пока Платон ощущает себя единым целым со своим учителем. Как бы то ни было, именно ощущение собственной недостаточности не позволяет Платону прямо и недвусмысленно изложить результаты своих изысканий, а использует сократовскую форму диалога, чтобы завуалировать их в ряде косвенных аллюзий. Связано ли это в первой или сократической серии платоновских сочинений с тем, чтобы не преподносить читателям готовые, не требующие усилий результаты в некратической манере и тем самым не создавать у них самомнения знания, тогда как намерение Платона – скорее порицать всякое самомнение знания, напротив, призывать их думать самостоятельно, предоставляя им самим выработать действительные результаты исследования, мы, по крайней мере, не хотим ничего решать «наверняка». В любом случае, он хочет скорее стимулировать, чем наставлять, и все это предположение, по крайней мере, довольно хорошо связано с первоначальными целями его письма, которые мы пытались разгадать выше. Оно по-прежнему носит чисто пропедевтический характер.
Если, однако, Платон намеревался развить сократовскую мысль в систему и если, с другой стороны, он не смог сделать это сразу, то есть в одном произведении, то само собой разумеется, что последующие сочинения отражают его собственное развитие, и что он естественно предполагает результаты предыдущих, чем дальше, тем более осознанно, в каждом последующем. Прозрачность этого курса была бы несколько омрачена, если бы мы были вынуждены считать подлинными два диалога, переданных под именем Платона, – «Ион» и первый «Алкивиад», – которые в таком случае нам неизбежно пришлось бы отнести к категории юношеских. Кроме того, оба диалога имеют множество других отличий в своем составе. В то время как ранние произведения в иных случаях появляются с богатым декорационным аппаратом, который еще более выделяется на фоне скудости содержания по сравнению с поздними сочинениями, они, наоборот, чрезвычайно просты в этом отношении. В них также отсутствует только скептический вывод. Наконец, «Ион» – единственный диалог в этом ряду, в котором не затрагиваются вопросы этики. В любом случае, эти два сочинения должны казаться исключениями из правила. Однако позвольте нам взять правило как таковое, в то время как прерывание обширного критического анализа, который в конце концов может не привести к абсолютно безопасному результату, лишь затуманит и нарушит ясное понимание правила. Поэтому пусть для нас не будет препятствием заранее оставить оба диалога вне игры, поскольку мы изначально не надеемся извлечь из них ничего полезного для нашей затеи, и лишь впоследствии предложить изменения, к которым приведет их подлинность.
Для того чтобы возвести Сократа в систему, Платону кажется правдоподобным, что он взял бы на вооружение те ее элементы, которые уже содержали в себе подход к такой системе. Как известно, это, с формальной стороны, требование понятийного знания и, как реальная оборотная сторона, определение добродетели как знания блага, с которым как следствие связано учение о том, что никто не бывает добровольно злым (Xen. Mem. IV, 2, 14). Но развитие формы и метода, рассматриваемое чисто само по себе, уже выдает продвинутую степень абстракции и, следовательно, предполагает предшествующую стадию, на которой сознание того же самого лишь постепенно укрепляется в постоянных практических занятиях, в которых оно, таким образом, впервые появляется в реальных предметах исследования. Мы будем тем более склонны с самого начала предположить, что Платон, полностью развив метод в техническое правило, уже вышел за пределы сократовской точки зрения, но поставить во главе развития тот диалог, в котором он схватывает центр сократовской этики в ее последствиях. Это и есть меньший Гиппий.
Грайфсвальд, 10 марта 1855 г.
Автор.
Первая группа платоновских произведений
Гиппий меньший
I. Содержание и структура
В кратком вступлении р.363 А.– 364 В. описывается ситуация диалога и мотивируется его исходная точка. Помимо Сократа и Гиппия, в диалоге участвует третий собеседник, Евдик, однако он служит лишь неформальным посредником в развитии диалога и, когда он грозит прерваться на середине, предотвращает это своим посредничеством, так что его вмешательство также внешне подчеркивает границу между двумя частями диалога. В сам диалог он не вмешивается. Кроме того, в использовании этого посредника есть и большая психологическая тонкость: Сократ предотвращает появление вызова со стороны Гиппия.[20 - Hermann а. а. О. I. 8. 600. Anm. 254.] Беседа строится таким образом. В неустановленном месте, возможно, в палестре, Гиппий только что произнес длинную речь в софистической манере, а именно о Гомере.
Большая часть слушателей уже сбилась с пути, остался небольшой, избранный круг. Евдик предлагает Сократу рассказать о состоявшейся беседе. Сократ просит разрешить ему задать вопрос софисту. Евдик устраивает исполнение этого желания: Гиппий соглашается, хвастливо заявляя о своей мудрости. И здесь фон молчаливых персонажей оживляет сцену, которая, кстати, проще, чем в последующих диалогах.
Теперь Сократ спрашивает, кого Гиппий считает лучшим, Ахилла или Одиссея, и в каком отношении. Гиппий отвечает, что Ахилл – лучший, Нестор – мудрейший, Одиссей – самый искусный и ловкий из гомеровских героев. Ахилл правдив, а Одиссей лжив и обманчив. Это приводит к общему вопросу о том, отличаются ли друг от друга правдивый и лжец, и выясняется, что ложь всегда предполагает знание вопроса, так что только знающие и искусные (??????) в равной степени способны говорить правду и лгать. Гиппий, давно разуверившийся в непреодолимой силе сократовских вопросов, критикует изощренность Сократа и предлагает им сразиться друг с другом в длительных беседах. Сократ легкомысленно отмахивается от этого предложения, иронично признавая великую мудрость Гиппия, но скорее ставит новый вопрос, почему тот представляет Ахилла исключительно правдивым, ведь он так часто бывает неправдивым. Софист отвечает, что Одиссей намеренно говорит неправду, а Ахилл – ненамеренно. Ответ Сократа, что, согласно предыдущему вопросу, Одиссей лучше, предваряет тему второго раздела. с. 364 B. – 373 A.
Здесь утверждение о том, что тот, кто лжет с умыслом, лучше, сводится к более общему и глубокому вопросу о том, что лучше – отсутствовать и творить зло с умыслом или без него. Сократ использует ряд примеров, чтобы показать, что, по крайней мере, во всех других видах деятельности лучше и искуснее тот, кто сознательно не достигает своей цели, а не тот, кто делает это против своей воли. Добродетель также является либо способностью, либо знанием, либо тем и другим вместе, и в любом случае лучшей следует назвать душу, которая знает и умеет делать как добро, так и зло, а значит, и ту, которая сознательно грешит, «если такая душа действительно существует», – с полным основанием добавляет Сократ. Но ни Гиппиас, ни он сам не могут убедить себя в правильности этого парадокса. Поэтому разговор, очевидно, заканчивается на скептической ноте.
II Основная идея
Именно это обстоятельство, очевидно, заставило Швальбе [21 - Ocuvres de Platon I. S. 110.]не видеть во всем споре ничего серьезного по форме и содержанию, а лишь обычную карикатуру на софистическую диалектику с обеих сторон с целью высмеять противника и разоблачить ложную мораль софистов. Это опровергается лишь тем, что сам Гиппий отказывается согласиться с отстаиваемым здесь утверждением.
Аст [22 - Platon’s Lehen und Schriften. Leipzig 1816. 8. S. 464.]находит также только полемическую цель, а именно противопоставление высокомерной мудрости софистов ироничному невежеству Сократа и выставляет его в пустоте и наготе; но поскольку это демонстрируется совершенно сократовским высказыванием, он считает диалог поддельным. Однако было бы справедливо сначала выяснить, нельзя ли обнаружить в диалоге сократовско-платоническое ядро.
Аналогичным образом, Стальбаум[23 - Platonis opera IV, 2. S. 232 – 235.] видит главной целью посрамление высокомерного софистического невежества, которое даже не в состоянии разрешить подобные заблуждения. Но поскольку он считает этот аргумент столь же софистическим, он заключает, что противоположный ему результат также будет истинным, и поэтому он объявляет второстепенной целью опровержение предположения о возможности намеренного греха абсурдностью его следствия, а именно тем, что тот, кто грешит преднамеренно, является лучшим.
Германн [24 - a. a. O. I. S. 434.]также ничем не отличается, за исключением того, что он придерживается более позитивного взгляда на первое: Это было доказательством сократовского метода в борьбе с народным невежеством и его рефлексивным отголоском, софистической «мнимой мудростью», даже там, где они, казалось бы, имеют союзника в естественном чувстве, и против извращенного авторитета, который они уступали древним поэтам.
Напротив, вторая группа комментаторов делает главный акцент на реальной стороне произведения и в то же время стремится придать ему для этой цели еще более позитивный смысл.
Сначала Шлейермахер[25 - Hebers. I, 2, S. 292.] слишком неопределенно выражается, что внимание здесь должно быть обращено на различие между теоретическим и практическим (вероятно, имеется в виду сознательное и бессознательное действие), то есть на природу воли и практических способностей и, таким образом, на то, в каком смысле только добродетель может быть названа знанием. Тем не менее, он видит в диалоге, по-видимому, только потому, что он не нашел для него места в его заказе, просто черновик Платона, переработанный учеником.
Целлер[26 - Platonische Studien. T?bingen 1839. 8. 8. 152 f.] обнаруживает более определенное намерение опровергнуть обычный взгляд, который ищет нравственность в отдельных поступках самих по себе, а не в лежащей в их основе конституции сознания, который считает возможным делать зло сознательно и намеренно, развивая его последствия и подготавливая тем самым высший взгляд на добродетель как на косвенное познание. В этом последнем повороте кроется прогресс против объяснений, разработанных ранее. Лишь гипотетически верно, что сознательно грешащий человек лучше, чем неосознанно грешащий, поскольку последний носит в себе принцип правоты, а тот еще далек от принципа всякой истинной добродетели. По правде говоря, знающий человек не может совершить настоящего зла, но только такое, которое является ложным по виду и форме, но правильным по сути и по своему моральному содержанию.
При таком рассмотрении исчезает все софистическое в рассуждениях, и даже тот кажущийся круг, по которому Целлер [27 - Neuerdings h?lt er selbst den Dialog f?r wahrscheinlich echt, Zeitschr. f. d. Alterthumsw. 1851. S. 256.]раньше заподозрил диалог, поскольку во второй части, по-видимому, уже предполагается, что знающие тождественны добрым, на самом деле не существует; скорее, в эпагогической процедуре используется только общепринятое употребление, согласно которому, например, хороший счетовод называется так же, как и умелый, знающий счетовод. К такому же выводу приходит и Штейнхарт,[28 - In Hieronymus M?ller’s Uebers. 1. Thl. Leipzig 1850. 8. s. 103 f.] который лишь видит в замечании, что добродетель – это, возможно, и знание, и сила, начало перехода за пределы чисто сократовской этики. Однако, как бы ни стремился Платон обратиться к активному проявлению силы воли, исторический Сократ (Xen. Mem. III, 9, 1—3.) не исключает его и не может этого сделать, потому что в его случае само знание – это не готовое, а активное проявление этической силы, ибо именно в этом основано единство знания и воли.
Но если вся подлинная философия Сократа поглощается в этом этическом знании, то формальная сторона произведения уже не может иметь ничего всеобъемлющего. Напротив, содержание и метод, положение и отрицание, по сути, сливаются воедино. Это этическое знание противостоит вульгарному представлению о добродетели в той же мере, в какой, с другой стороны, оно развивается из него путем индукции как необходимое следствие самого неясного нравственного чувства. И, с другой стороны, только сократический метод может породить такое знание и, наоборот, является в свою очередь необходимым его выражением и продуктом, как это ясно из контраста с манерой софистов, этих фактических выразителей вульгарной ненаучности, и как содержание, так и метод впервые проясняются этим контрастом. С одной стороны, это безудержная хвастливость, p. 363 E. ff., и многословность, которой не хватает объединяющей связи понятия, p. 368 B.-E., и которая поэтому вскоре показывает пустоту своего пышного красноречия, чувствуя себя скованной оковами сократовского способа постановки вопросов, p. 369 B.-D., и жаждет вернуться на более плодотворное поле длинных ораторских выступлений, где от удачи зависит, сможет ли слушатель следовать за ними и обнаружить их слабости, с. 373 A., пока, наконец, вся их мнимая мудрость не растает в ничто, с. 376 C. С другой стороны, та благоразумная скромность и то искреннее стремление к истине, которые, возможно, Платон сначала воплощает под именем «невежества», но в то же время уже здесь описывает с чертами, в которых отражаются его собственные состояния. Ведь в состоянии, беспомощно колеблющемся между противоположностями, подобном состоянию лихорадочного человека, p. 372 D. E. cf. 376 C., можно распознать не классическое спокойствие мастера, а скорее ту бродильную борьбу молодого мыслителя, о которой мы уже говорили.[29 - Anm. 12. Stc inhart я. а. О. I, 8. 100.] Для Сократа незнание – это только сознательное, но в остальном объективно удерживаемое выражение отсутствия актуальной системы; для Платона же к нему добавляется субъективная потребность восполнить этот недостаток, тяга к системе. С другой стороны, осознание метода еще крайне неразвито, что выражается лишь в контрасте между сократовским способом постановки вопросов и длинными речами софистов. Как ни пренебрегал исторический Сократ непрерывной речью или отказывался отвечать на вопросы, уже для его современников было характерно видеть его говорящим в вопросительной манере и даже отвечающим на поставленные ему вопросы встречными вопросами (Xen. Mem. IV, 4, 9 f.). Платон, после того как он так сильно подчеркнул сократовское невежество, должен был также привести этот путь, который был наиболее с ним согласен, p. 372 до н. э. C., должен был решительно выдвинуть его на передний план, а также строго придерживаться его в практическом применении здесь. Конечно, однако, это может относиться только к фактическим фи-лософемам; непрерывное описание сократовского невежества, которое весьма характерно встречается между двумя разделами целого, с. 372 B. – 373 B., касается его фактического состояния ума, которое Сократ никак не мог выудить из другого. Накопление примеров в диалоге уже выдает стремление к максимально полному собранию эмпирии для большей уверенности в индукции. Подлинность устанавливается также внешним свидетельством Аристотеля (Met. V, 29, 1025 a. 6 ff.).
Лисид
I. Краткое содержание
В «Лисиде» и «Хармиде» представлена самая ранняя форма пересказа беседы Сократа, а именно пересказ одному или нескольким молчаливым собеседникам. Признано, что эта отделка служит для более живого изображения драматического и мимического. И это также проявляется здесь в юношеском изобилии, что несколько контрастирует с логически формальной трактовкой содержания[30 - Hermann а. а. О. I. S. 387. Zeller, Zcitschr. f. Alterth. 1851. 8. 252.], хотя Лисид в особенности уже сравнительно богат новыми, еще неразработанными идеями. Структура этого диалога также богаче, чем у других ранних сочинений.
Место действия – недавно построенная палестра. В общем вступлении стр. 203 – 206 Э. Гиппотала сатирик Ктесипп высмеивает за непрерывное «пение и речи «1 своего любовника Лисида, и Сократ также порицает такую процедуру, которая только делает любимого тщеславным и высокомерным и имеет лишь корыстную цель завоевать его для себя таким способом. Пока этот разговор продолжается на открытой площадке, происходит второе, более конкретное вступление p. 206 E. – 207 D. вводит нас в интерьер Палаэстры и в разговор с Лисидом, имеющий целью дать Гиппоталу пример того, как, с другой стороны, адская любовь стремится нравственно воспитать возлюбленного, прежде всего заставляя его почувствовать свою ненужность и невежество и тем самым делая его не тщеславным, а смиренным, см. p. 206 C., 210 E.
Собственно диалог теперь делится на четыре части, в которых в качестве собеседников Сократа попеременно выступают юноши Лисид и Менексен. Там, где речь идет о формальной остроте развития понятий, используется аргументированный, дерзкий, тонкий Менексен; там же, где речь идет об элементарных основах или об обретении конкретного содержания, в разговор втягивается застенчивый, по-детски робкий, но более глубокий и рассудительный Лисид.[31 - Steinhart a. a. O. I. S. 224 ff.]
В первой начальной беседе с Лисидом, p. 207 D. – 210 E., Сократ соединяет ранее упомянутую методологическую цель с основой актуальной темы, показывая, что знания и умения приобретаются исключительно через любовь к другим. Дружба и здесь рассматривается вполне по-сократовски, в зависимости от ее полезности. Более строго диалектически, в диалоге с Менексеном, 211 г. н. э.-213 г. н. э., взаимность предстает как необходимая форма. Эта форма затем получает свое содержание, в-третьих (Лисид здесь снова выступает в качестве соавтора), принимая два противоположных положения натурфилософии о притяжении подобного (Эмпедокл), которое, однако, в этических терминах должно быть ограничено добром, поскольку зло – это даже то, что не похоже на себя, и снова о дружбе противоположного (Гераклит). Оба положения неправдивы в своей грубости, последнее потому, что, согласно вышесказанному, дружба возможна только среди благих; первое, с другой стороны, доказывает свою односторонность только с помощью предварительного аргумента, поскольку благо понимается крайне односторонне в абсолютном смысле, как не имеющее нужды, так что благие бесполезны друг для друга и, следовательно, как только что было предположено, не могут быть друзьями. Однако тут же эта ущербная идея вновь отменяется, хотя бы косвенно, так что относительно добрые предстают здесь еще негативно, как «ни добрые, ни злые, которые любят добро из-за присутствия зла, то есть из-за своего несовершенства, p. 213 D. – 218 C. В последнем разделе, p. 218 C. – 223 A., окончательно проводится различие между абсолютным благом как высшим объектом любви, единственной самоцелью (?????? ?????), и относительными благами, которые желаются лишь как средства к нему, и таким образом полностью устраняется прежнее смешение относительно добрых людей с первыми. Точно так же теперь обнаруживается противоречие, когда недостаток, ведущий к желанию блага, ранее описывался как зло. Напротив, основанное на нем желание само по себе не является ни добром, ни злом, то есть положительно относительным добром; оно есть лишь стремление к осуществлению естественных жизненных функций души, тогда как зло – это их нарушение. В этом отношении любовь стремится к тому, что ей принадлежит, и это по меньшей мере подразумевается, более того, является прямым следствием вышесказанного, что необходимо обозначить благо как то, что принадлежит каждому человеку, чтобы избежать всех противоречий, которые вновь возникают при одностороннем толковании этой, а также предыдущих концепций.
Взаимность объясняется направлением на то, что принадлежит, а направление на то, что является благом, объясняет тенденцию к тому, что является как сходным, так и несходным. Ведь эти два качества отвечают не только конечной цели, высшему благу, но и следующему объекту. А именно, совершенствование через дружбу, приближение к идеалу абсолютного блага, заключается в завершении собственного бытия. Однако дополнить можно только то, чего у нас нет; только несхожие натуры могут это дать. В свою очередь, только благо может совершенствовать нас; поэтому их несходство может заключаться только в том, что в них представлены разные стороны высшего блага, оно должно основываться на сущностном равенстве.
Среди персонажей Гиппоталес дает образ неистинной и безнравственной любви, любящей только себя в любимом объекте и не имеющей понятия о взаимном нравственном воспитании и дополнении, Лисий и Менексен дают односторонний пример взаимного притяжения несходных натур, Ктесипп и Менексен родственные натуры[32 - Steinhart а. а. О. I. S. 220 f.], и только Сократ представляет истинную и всесовершенную, а потому уверенную в себе дружбу. Именно поэтому он считает своим единственным знанием умение распознавать возлюбленных и своих близких, p. 204 C.
II. Задача и точка зрения работы
Исторический Сократ неоднократно ставил дружбу в зависимость от эмпирически определяемой полезности (Xen. Mem. 1,2,52—55.11,4,6.), утверждая, с другой стороны, что дружба возможна только между хорошими (Mem. II,6,5.), а поскольку для него полезное и хорошее тождественны, это само по себе должно было побудить Платона, стремившегося к систематике, объединить их таким образом, чтобы любить хорошее в своем друге. Но кроме того, как он уже показал в «Гиппии», идя по стопам своего учителя, добродетель и знание тождественны; стремиться к добродетели – значит философствовать. Поэтому, когда Сократ описывал свои отношения с учениками под именем дружбы и даже любви (Xen. Mem. I, 2, 7 f. ср. 6, 14. II, 6, 28. IV, 1, 2 и особенно Sympos.), когда он делал почти дословно повторяющееся здесь утверждение (Mem. I, б, 14), что, подобно другим любителям лошадей и собак, он был любителем друзей (?????????? p. 211 E.), дальнейшее следствие для Платона заключалось в том, что нет другой дружбы, кроме философской, и что под ней следует понимать не что иное, как сократовское общее место философствования. И опять же, сократовское философствование было, в силу невежества, простым стремлением, но человек стремится только к тому, чего у него нет, поэтому неточно относить это стремление к «благу»; скорее, философы – это те, кто стоит посередине между злом и добром, поэтому во взаимности этого стремления приятель лишь косвенно относится к благу, к которому мы стремимся; мы стремимся к нему ради высшего блага, которое присуще этому обладанию: сократовская польза дружбы, с которой беседа, опять-таки в самой тесной связи с высказываниями самого Сократа (Mein. 1,2,52—55.), в ходе все того же окончательно переходит в имманентную целесообразность. В этом, однако, уже кроется отделение высшего блага от относительных благ, благодаря чему сократовская относительность блага (Mem. III,8.) уже преодолена, по крайней мере, по форме. Действительно, обозначение этого ?????? ?????, ?? ?????? ?????, ради которого мы также называем все остальное ????, уже перекликается с языком позднейшего учения об идеях, ср. в частности Symp. p. 210 E.; действительно, отдельные блага уже характеризуются как его ??????, p. 219 C. D.
Однако, с другой стороны, это высшее благо все еще остается смутной формой без конкретной определенности содержания, и если сама неопределенность, в которой Сократ оставил понятие блага, так что в него было включено даже то, что необходимо для физической жизни, все же делает возможным дальнейший шаг описания зла как абсолютного противоречия или противодействия.
Зло как абсолютное противоречие или отрицание, p. 214 D. cf. 217 C. D., и, наоборот, обозначение желания, стремящегося к добру, как выражение естественной жизнедеятельности тела и разума, – это лишь зародыши мысли, которым здесь не может быть придано никакого дальнейшего значения. Нет даже самой отдаленной мысли об ипостаси сократовского понятия: высшее благо отнюдь не является понятием блага. И как бы ни бросалось в глаза различие между существенными и случайными детерминациями, p.217 C. D.», и напоминать об учении об идеях выражением ????????, Платон ни в малейшей степени не связывает это различие с предыдущим. Два основных элемента позднейшего учения об идеях, формально-логический и реальный, понятие и архетип, протекают здесь, так сказать, еще раздельно, бок о бок.
Но даже в этом случае это стремление к – высшему – благу, с.221 А. Б., есть не что иное, как философский инстинкт и возвращается как таковой в Симпозиуме в неопределенном и более широком понятии ???? в качестве отправной точки.
Даже использование натурфилософских сентенций не следует переоценивать, поскольку они поставлены в один ряд с поэтическими изречениями того же названия p. 214 A.[33 - Выше мы рассмотрели Хайндорфа з. д. Ст. и Штейнгарта а. а. O. I. p. 260 note 22 под «мудрецом», процитированным p. 214 B., мы понимали Эмпедокла. По-другому, конечно, B?ckh, Heidelb. Jahrb. 1808. p. 118: «Здесь также должен подразумеваться популярный мыслитель, который был известен также по устным лекциям; ибо Платон не легкомысленно вменяет „знания“ мудрецов вашему юному Лисию, но именно для того, чтобы дать понять, что не истинные мудрецы имеются в виду, а так называемые софисты». Герман а. а. О. I. 8. 569 прим. 78 соглашается и более точно предполагает Гиппий согласно Protag. p. 337 D. Но до того, как Платон сам достиг глубокого умозрительного развития, у него еще не было всех средств, чтобы отличить софистов от истинных мудрецов; по крайней мере, только Сократ мог считаться последним. И поскольку он сам уже в юном возрасте предпринял столь обширные философские исследования (см. примечание 5), мысль о том, что он слишком много внимания уделяет Лисию, вероятно, не была для него особенно очевидной. Г-жа первоисточник хочет, чтобы II ermann (ср. а. а. О. I. p. 279 прим. 2?) предпочел Демокрита; Stall b?um думает об Анаксагоре. Но разве Платон не должен был предпочесть менее механистическую версию Эмпедокла? Об остальном см. Steinhart op. cit.]
Можно предположить, что возвращение к этическим положенеиям древних натурфилософов также вполне в духе чистого сократизма,[34 - Zu weit geht Steinhart а. а. О. I. 8. 225.] даже если Xen. Mem. I, 6, 14, под ????? [софой] предпочтительно понимаются поэты. Особенность Платона здесь, таким образом, состоит лишь в том, что он не пренебрегает физико-метафизическими теориями, если только способен извлечь из них этический результат, чем, однако, достигается своего рода более глубокое спекулятивное обоснование.
Что касается метода, то его осознание, в отличие от меньшего Гиппия, стало значительно более интериоризированным; здесь наблюдается почти движение от отрицания к утверждению. Там, где речь идет только о том, чтобы уличить напыщенного презирателя истинной науки в невежестве, но ни в коем случае не о том, чтобы привлечь к философии такую нефилософскую натуру, в основном применяется только сократовская эленктика с помощью эротематического метода. Здесь же, где речь идет о философских отношениях дружбы, где речь идет о том, чтобы привлечь двух нежных юношей с прекрасными склонностями к изучению философии и посвятить их в ее первые зачатки, эленктика может быть только подготовительным и сопутствующим моментом протрептики. В первой части диалога совсем нетрудно убедить неиспорченного Лисия в необходимости знания, и только против ссорящегося Менексена Сократ действительно прибегает к софистической путанице понятий, отчасти для того, чтобы защитить его от отклонений, которым может подвергнуть его природа и образование, а отчасти для того, чтобы развить в нем истинно философское начало, давая ему загадки, в которых важна только понятийная острота различия. Так, во втором разделе смешиваются различные значения ?????, а в четвертом – ????? и ???.[35 - Stallbanm a. a. O. 8. 78. Steinhart а. а. О. I. S. 265. f. Anm. 19 f. S. 268. Anm. 31.]
Однако по этой самой причине сократовское невежество уже не имеет сурового характера меньшего Гиппия, но Сократ, по крайней мере, приписывает себе признание влюбленных и возлюбленных, то есть понимание природы философских усилий. Это также связано с более глубоким созерцанием любви и дружбы, полученным здесь, и поэтому не должно быть напрямую приписано историческому Сократу. Действительно, мимо нас проскальзывает слабый намек на то, что истинного философа также вновь любит мудрость, p. 212 D. [36 - Steinhart a. a. O. I. S. 266. Anm. 21.]Неудовлетворенная жажда знания, как мы думали, что обнаружили ее у меньшего Гиппия, уже уступила место спокойному осознанию постепенного удовлетворения ее и пути, ведущего к ней. Действительно, может показаться, что требование взаимности в дружбе, то есть в философском стимулировании, несовместимо с односторонним методом вопрошания, который Платон и здесь заставляет Сократа строго соблюдать. Единственное, что здесь важно, – дать двум еще неопытным мальчикам первый стимул к самостоятельному мышлению. Весь разговор носит лишь пропедевтический характер; он прерывается как раз в тот момент, когда Сократ хочет продолжить его с кем-то из старших.
Цель всего этого – представить инстинкт и предмет или цель философии, то есть любовь и высшее благо, затем средства, которыми она достигает этого, то есть дружбу, и, наконец, практическое применение этих средств, то есть метод, в подготовительном виде, с указанием на препятствия.
III Прежние взгляды на цель диалога
В этом взгляде сливаются воедино взгляды Германа, Штейнгарта и Шлейермахера.[37 - Hermann a. a. O. I. S. 447 – 440 und 613. Anm. 4. Steinhart a. a. 0. I. S. 223 und 220. Schleiermacher a. a. O. I, 1. bes. S. 178 f.] Оно основано на полном смешении различных платоновских стадий развития, когда Шлейермахер признает действительной задачей маленького сочинения представить любовь как философский инстинкт, так как она все еще предстает здесь полностью окутанной объективными отношениями дружбы.
С другой стороны, он метко замечает, что второстепенная цель – на самом деле лишь практическая видимость и применение главной цели – дать наставления по морально-эротическому обращению с любимым, соединяет внутреннее с формой. Штейнгарт гораздо правильнее поступает в этом отношении, поскольку, по его мнению, диалог должен представлять физическую причину и этическую сущность дружбы, а именно любовь как первую, так и вторую – взаимодополняющее общее стремление родственных и различных натур к высшему благу. Однако это недостаточно точно подчеркивает то, что Шлейермахер лишь неисторически задумывал, а именно то, что изучение дружбы служит лишь изучению сущности философии; скорее, можно предположить обратное. Наконец, Германн еще больше сузил реальное содержание работы и ограничил ее предметом философии, а именно установлением высшего блага. Таким образом, внутренняя связь также кажется отсутствующей, когда, кроме того, он находит в методологическом плане намерение вскрыть неадекватность обычного использования языка, указать на относительность некоторых понятий и предостеречь от резкого применения отдельных поэтических стихов и философских доктрин.
У Стальбанма [38 - a. a. O. S. 86 -88.]методологическое становится главным и, более того, ограничивается лишь насмешкой над софистической манерой, которая лишь случайно связана с второстепенной целью, сущностью дружбы, которой Стальбанм также не придает никакого глубокого значения.
От предположения о такой ущербности композиции, наконец, остается только сделать еще один шаг, чтобы увидеть в целом с Астом и Сохером [39 - Ast a. a. O. 8. 431 – 434. Sucher, Ueber Platon’s Schriften. Munchen 1820. 8. S. 140—144. Auf ganz anderem Grunde beruhen die Zweifel von Zeller, Phil. d. Gr. II. 8. 170. Anm. gegen die Echtheit, die er jetzt selbst berichtigt hat, Zeitsehr. f. d. Alterth. 1851. S. 252 ff.]только игру с обманчивыми софизмами и без всяких оснований отвергнуть подлинность.
Хармид
I. Содержание и цель
Из несколько затянутого вступления,[40 - Hermanna, a. O. I. S. 608. f.] p. 153A.– 158 E., мы выделим только одно. Уже здесь, в связи с утверждением, что все болезни и здоровье исходят от души, благоразумие обозначается как здоровье души и господство над телом,[41 - Steinhart a. a. O. I. S. 281.] а Сократ описывается как тот, кто способен достичь его с помощью волшебной силы своих речей. Затем собственно основное содержание распадается на пропедевтическую и более диалектическую части. Там юношески рассудительный Хармид, здесь (тщеславный, утонченный Критий выступает в роли собеседника.[42 - Ebenda I. S. 277, 282.]
В первом диалоге, p. 159A.-162C., как всегда, сразу же объявляется сократовское отнесение благоразумия к знанию, разумеется, в чисто популярной версии, что тот, кто обладает благоразумием, обязательно должен иметь и представление о его природе.[43 - Hermann a. a. O. I. S. 444 und 610. Anm. 290.] Весь ряд приведенных в диалоге формулировок расположен в порядке возрастания. Первое из них, по этой самой причине, касается только внешнего облика, объявляя благоразумие спокойным и достойным поведением. Но оказывается, что это не является даже верным признаком, не говоря уже о сути этой добродетели, p. 159 B.-160 D.
Второе толкование, по крайней мере, уже вступает в область внутренней жизни души, но захватывает, так сказать, только естественную основу ее, инстинктивную нравственную застенчивость (????? [айсос]), тогда как легко показать, что существует также ложная стыдливость и скромность, что это само по себе, следовательно, еще нечто нравственно безразличное, p. 160E.– 161B.
Наконец, Хармид предлагает третий, более простой взгляд. Благоразумие заключается в том, что каждый делает свое дело. Однако сразу же, даже после нескольких незначительных аргументов Сократа против него, основанных лишь на софистическом смешении этического делания, ????????, с техническим ??????, роль участника беседы переходит к Критию, который искусно вводит тот факт, что именно он является создателем этого понятия.[44 - Ochmann, Charmides Piatonis qui fertur dialogus num sit genuinus. Breslau 1827. 8. S. 25. Anm.]
Так начинается вторая часть. Очевидно, что Платон смешивает ???????? с ?????? только для того, чтобы призвать к разделению этих двух понятий. Но Критий, критикуя предыдущее, сам проводит последнее в такой софистической манере, что Сократ не может не вспомнить Продика, где в качестве правильного отмечается лишь то, что с совершением надлежащего мы переходим уже из общей психической в более узкую этическую сферу. Критий, однако, идет дальше, утверждая, что ?????? постоянно распространяется только на морально добрых, p. 162 C.– 164A.
Таким образом, однако, переход к четвертой трактовке, согласно которой благоразумие – это совершение добра, оказывается надуманным. Но даже помимо этого, специфически сократовская ссылка на знание все еще отсутствует, и поэтому Сократ сразу же доказывает, что эта неясная по смыслу трактовка не обязательно включает в себя сознание благоразумного относительно своей деятельности, принятое им за необходимое в начале всей беседы, p. 159 A. В то же время он ставит ?????? в более выгодное отношение к ????????: всякая форма работы основана на этическом поведении, p. 164 A. – C.
Но вместо того, чтобы развивать данное объяснение дальше, Критий без лишних слов выбрасывает его за борт и перескакивает к пятому пониманию благоразумия как самопознания, объявляя, не без глубокого смысла, хотя и с несколько неясными словами, среди надписей Дельфийского храма одну только, более древнюю, «познай самого себя делом бога, призывом к мудрости жизни, а не просто к мудрости жизни[45 - Hieron. M?ller a. a. O. I. S. 337. Anm. 14.], с. 164 С. – 165 B.
Однако теперь «Я», которое является предметом этого знания, требует точного определения. Для этого будут более подробно рассмотрены различные отношения знания к его предметам. Здесь проясняется существенный смысл предыдущих рассуждений о ?????? и ????????. Ведь подобно тому, как в основе каждого ?????? лежит ????????, в основе каждого ???????? лежит знание. Соответственно, само знание либо таково, что оно каждый раз должно сначала создать свой предмет, либо этот предмет по меньшей мере внешний по отношению к нему, либо, наконец, знание имеет само себя в качестве своего предмета. А то, что это последнее относится к самопознанию, снова вводится в форму новой софистической путаницей Крития,[46 - Nicht des Sokrates, wie Ast a. a. O. S. 424 und Steinhart a. 0. I. S. 284 angeben.] в том смысле, что он превращает благоразумие из знания о себе в знание о себе, т. е. в знание знания, но на самом деле это шестое по счету определение является лишь желаемым более близким объяснением предыдущего, поскольку знание можно рассматривать только как истинное Я человека, p. 165 B. – 166 E.
О том, насколько это так, можно судить по следующим очевидным сомнениям в возможности такого самореферентного знания. Ведь утверждая, что нет ни желания, которое желает само себя, ни восприятия, которое воспринимает само себя, ни воображения, которое воображает само себя, мы тем самым обращаем внимание на существование специфического различия между знанием и всеми другими видами умственной деятельности, p. 167 A. – 168 A. Далее, однако, указывается также, по крайней мере в первых очертаниях, в чем состоит это различие. Ибо каждая деятельность имеет своим объектом лишь вполне определенную сторону вещей, например, зрение – цвет. Восприятие, чтобы воспринимать себя, должно было бы, следовательно, иметь в себе цвет и т. д., но это не так, и т. д. Если, следовательно, должно существовать знание о знании, то только знание должно нести в себе и из себя специфическую форму того, что известно, т. е., чтобы выразить это яснее, чем это удается самому Платону, оно само должно быть понятием, с. 168 D.E. Платон даже умеет противопоставить это знание, относящееся к себе как понятие, отношениям числа и величины, в которых такое отношение к себе невозможно, с. 168 В. C. Иными словами, идея знания о знании приводит его не только к психологическому отличию познающего самосознания от всех других видов умственной деятельности, но и к логическому различению абсолютных и относительных понятий.
Дальнейший вопрос Сократа, является ли такое знание, если оно возможно, хотя бы полезным, ведет теперь к точному отношению знания о знании к знанию обо всех других понятиях. Если все другие предметы, внешние по отношению к самому знанию, исключены из него, то оно не учит нас тому, что мы знаем, но из всего, что мы знаем, оно учит нас только тому, что мы это знаем; остается только голая форма и метод знания, p. 169E.– 170D. В действительности же знание всегда включает в себя свое реальное содержание, p. 170 E. – 172 B., и поэтому, делая вывод о том, что мы познаем все легче, яснее и глубже через познание знания, мы не должны не признать более глубокого смысла, что знание становится истинным знанием только благодаря тому, что оно способно дать отчет о себе, и что, с другой стороны, именно благодаря этому его предметы перестают быть внешними и чуждыми ему, p. 172 B.C.
Здесь уже заложены элементы для возвращения из формально-логической в реальную этическую область. Сократ при этом создает впечатление, что реальное содержание вышеуказанного знания еще не определено, и утверждает, что не всякое знание ведет к счастью, p. 172 D. – 174 B. Таким образом, Критий дает седьмое определение благоразумия как знания о благе.
Но сам Платон придает такое значение объяснению как знанию о знании, что называет его третьим даром или приношением в скорлупе, p. 167 A., при этом нам не нужно беспокоиться о том, что это не третье, а шестое определение; но как третий дар является приношением в скорлупе, так и здесь это шестое определение приводит к заключению и решению.[47 - S. indessen Hier. M?ller а. а. О. I. S. 337 f. Aum. 16.]
Поэтому мы можем предположить, что и следующее объяснение находит в нем свое глубокое подтверждение, и что заключительное утверждение Крития о том, что «благоразумие – это когда знание блага направляется знанием знания, не отменяется сомнениями, выдвинутыми против него Сократом.[48 - Steinharta. a. O. I. S. 288 f.]
На самом деле, однако, все ясно в соответствии с изложенным выше ходом развития. Если же благо является высшим предметом философии, то к его познанию можно прийти только с помощью правильного метода, а следовательно, придя к нему, человек сможет дать полный отчет и обо всех своих мыслях и поступках.[49 - Vgl. Zell er, Zeitachr. f. d. Alterth. 1851. S. 254. Aehnlicli schon Ochmann a. a. O. S. 40, welcher nur die Ideenlehre bereits einmischt.] Напротив, впоследствии становится совершенно ясно, что переход от мысли о себе к мысли о благе отнюдь не был скачком, поскольку благо – это именно собственное дело человека и что истинное самопознание состоит в самосознательном совершении блага.
Таким образом, обнаруживается, конечно, общая добродетель, а не особенность самообладания. Последняя лишь набросана в отдельных чертах, например, в том, что мы ограничиваем себя тем, что нам принадлежит, то есть тем, что мы признаем своей особой задачей в великом целом, что нам присуща та робость священного (?????), но теперь уже как хорошо осознанная, да и внешне она, как правило, может проявляться скорее в достойном и размеренном, чем в порывистом виде.[50 - Vgl. Zell er, Zeitachr. f. d. Alterth. 1851. S. 254. Aehnlicli schon Ochmann a. a. O. S. 40, welcher nur die Ideenlehre bereit» einmischt. In der Schilderung als Gesundheit der Seele vermag ich dagegen nicht mit Schleiermacher a. a. O. I, 2, S. 4 und St einhart a. a. O. I- 8. 289 einen speeifischen Zug der Besonnenheit, vielmehr auch nur die Tagend ?berhaupt zu erblicken. Uebrigens geht schon hieraus gegen Steinhart a. a. O. I. S. 290 hervor, dass Schlei er mach er allerdings auch speciclle Merkmale der Besonnenheit im Dialoge gesucht hat. Dage- gen beschr?nkt Hermann a. a. O. I. S. 609 ff. Anm. 286, 290, 299 den Ertrag auf die formalen Data, dass sie ein Wissen und zwar thcilnehmend an der eigentlich so zn nennenden Erkenntniss des Outen, der ????????, sei. Im Uebrigen kann ich hinsichtlich der fr?hern Auffassungen aufSteinhart a. a. O. I. S. 277—279 verweisen.] Скорее, цель Платона состоит в том, чтобы стимулировать связь метода с содержанием в общем стремлении к добродетели через конкретную добродетель благоразумия.
Если бы он уже умел самостоятельно обращаться с логическим элементом, основная добродетель мудрости дала бы ему лучшую отправную точку. Однако, как и прежде, различие – это лишь путь к независимости, а для переплетения обеих сторон, которое проходит через различие, ему подошло благоразумие с его сдерживающим, регулирующим и авторитетным характером. В этом он следовал курсу Сократа, который особенно подчеркивал единство ????????? с ????? (Xen. Mem. III, 9, 4.) Только тенденция к определенному отличию отдельных добродетелей друг от друга и от общей добродетели присутствует максимально.
II. Значение персонажей
Критий не только иронически называет себя ?????, с. 161 С., ср. 162 В. и 163 D., но и проявляет многие другие софистические черты, а именно: нетерпеливое тщеславие, с. 162 С. 169 С., которое даже заставляет его в свою очередь обвинять Сократа в эристической процедуре, с. 166 С., кроме того, искажение поэтических отрывков, с. 163 В., и немалое безрассудство в немедленной замене одного лишь частично опровергнутого утверждения на другое, с. 165 В.[51 - Hermann а. а. О. I. 8. 612, Anm. 296 f.]
Но именно в этом последнем случае он проявляет хотя бы частичную склонность признать свои ошибки, хотя здесь он делает это необдуманно, и, наоборот, как раз там, где это было бы более уместно, его тщеславие не позволяет ему этого сделать. Тем не менее, определенное стремление к истине всегда налицо, его определения, замечания и возражения дышат логической проницательностью, и поэтому Сократ отнюдь не отрицает некоторые из своих взглядов прямо и бесспорно, а скорее дает им явное, хотя и сомнительное, а потому условное признание, p. 168 E. f. 170 A. 172 В. К. Таким образом, в целом он предстает здесь, как и в «Протагоре», в соответствии со своей исторической позицией, как софистический эклектик, но тот, кто часто наполняет софистику более глубокими сократическими отголосками, и его диалог с Сократом также должен рассматриваться, по крайней мере отчасти, как совместный поиск истины 51), с. 165 В. С., ср. с. 158, хотя, с другой стороны, он все же протекает без какого-либо видимого результата. Таким образом, и Критий в заключение охотно рекомендует Хармиду учение Сократа. Хотя благоразумие наивно и неразвито у Хармида, оно появляется и у него, сознательно, но почти погрязнув в странных излишествах, и только у Сократа оно реализуется полностью и всеобъемлюще.[52 - Steinbart a. a. O. I. S. 280.]
Наконец, Херефонт, который появляется с речью только во вступлении, кажется, введен только для того, чтобы наглядным образом показать, что подобающее достоинство и спокойствие хотя бы внешне не могут быть верным признаком благоразумия, за которое его принимает обычное мнение. Ведь эксцентричная стремительность этого человека, p. 153 B., лишь внешне подтверждает то возвышенное почитание, которое он питает к Сократу, а следовательно, и магическую силу его речей, поистине наделяющих благоразумием.
III. Связь с двумя предыдущими диалогами