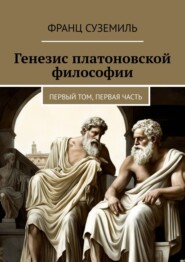скачать книгу бесплатно
Если в меньшем Гиппии добродетель раскрывается как знание блага, то в двух последующих произведениях два момента этого понятия, а именно в Лисиде – блага, в Хармиде – знания как такового, рассматриваются более пристально, там – содержание, здесь – форма знания, там – цель, здесь – средства. Ибо рассуждения здесь можно признать удовлетворительными только в том случае, если не ожидать, что тождество добродетели и знания должно быть сначала доказано, а заметить, что оно уже предполагается с самого начала, p. 159 A. – очевидно, из меньшего Гиппия – и если точно так же принять благо как высший предмет философии и, таким образом, как истинно должное и принадлежащее опять-таки из Лисида. Тогда речь идет не просто о единстве добродетели с сократовским самопознанием, единственным элементом, который Платон в этом диалоге все еще непосредственно перенимает у своего учителя; но, поскольку нет необходимости доказывать, что знание есть высшая рассудочная деятельность и самая внутренняя сущность человека, в самопознание непосредственно включается требование, чтобы знание также было способно дать отчет о себе, благодаря чему оно фактически возвышается до знания. Это теперь обязательно предполагает осознание различия между знанием и другими видами умственной деятельности, восприятием и представлением, которое состоит именно в этом самосознании знания.
Это также наделяет сократовское учение о добродетели более широкой основой: в тех, кто обладает благоразумием, не обязательно предполагается «знание», а только идея благоразумия, p. 159 A. Вырастить эти неразвитые зародыши – в» Charmides» – и, с другой стороны, подрезать пышные – в» Critias» – как раз и является задачей сократовского метода обучения.
Таким образом, все дело, по сути, сохраняет пропедевтическую, направляющую установку. Даже в своей пластической форме диалог уже более зрелый, чем «Лисий». Если в «Лисисе» среди сотрапезников Сократа находятся два юноши, едва вышедшие из подросткового возраста, и беседа обрывается в тот момент, когда Сократ хочет продолжить ее с одним из старших, то здесь он фактически продолжает начатый с юношей разговор со зрелым, прекрасно образованным человеком. Оба юноши, Лисий и Хармид, похожи друг на друга до волоска, но у Лисия в силу этой разницы в одежде более содержательная миссия; Сократ предпочитает обсуждать с ним не только элементарные, но и конкретные, внутренние аспекты искомого понятия; беседа имени него приобретает, таким образом, более богатую структуру.
Однако именно потому, что, с другой стороны, соответствующая роль отводится Менексеносу, здесь, у вашего более высокоразвитого Крития, эленктика также выходит на первый план гораздо резче, см. с. 165 B., так что дело не доходит до какого-то мнимого результата. И если Критий хотя бы дает некоторые подходы к такому результату, то тем более резко подчеркивается, что весь разговор имеет лишь формальную цель убедить Хармида в том, что только он один может научиться благоразумию у Сократа, p. 158, 175 E. ff.
Таким образом, практический облик Сократа остается неизменным, за исключением того, что он, по крайней мере, уже не ведет себя исключительно как простой вопрошатель, не просто критикует, но и критикуется Критием, p. 163, esp. p. 165 E., 174 D. E. Только из-за разницы в одежде Сократ в «Лисиде» дает двум неокрепшим мальчикам попробовать всевозможную чужую мудрость, тогда как здесь все вращается вокруг собственной мудрости Крития, когда, в соответствии с этим, Сократ там делает основные выводы, тогда как здесь используется измененная позиция собеседника, чтобы вложить в его уста результаты, которые не только выходят за рамки сократовской точки зрения, но и по форме слишком противоречат сократовскому невежеству,[53 - Nach Steinhart a. a. O. I. S. 282 ist Kritias sogar eine Zeit lang Gespr?chieiter. Wo?] а именно знание знания, а поскольку он связывает себя с этим, то и конечный результат всего дознания. В остальном «невежество» выражено здесь, по возможности, менее резко; философствование представляется простым поиском истины, но относительное нахождение, несомненно, должно быть включено, если Хармид, несмотря на то, что ничего определенного о благоразумии еще не открыто, с такой уверенностью рекомендует учение Сократа, чтобы найти его в нем.
Лахет
I. Структура и содержание
Лахет построен точно так же, как и Хармид, и разделяет с ним непропорционально длинное вступление,[54 - Zeller, Zeitschr. f. d. Alterth. 1851. S. 252.] p. 178 A. – 190 C. Лисимах и Мелесий, престарелые сыновья Аристеида и престарелого Фукидида, чувствуя свою ничтожность по сравнению со своими знаменитыми отцами, пытаются дать своим сыновьям лучшее образование и для этого советуются с двумя полководцами Никиом и Лахетом, а по наущению последнего еще и с Сократом, о ценности гопломахии[55 - Гопломахия – это битва в полном вооружении. Слово происходит от греческих слов hoplon («оружие») и machesthai («бороться»).], то есть сражения в полном вооружении.
Поскольку суждения первых двух мужчин противоположны, Сократ советует им оставить решение за самым разумным и предлагает выяснить, кто из троих наиболее сведущ в искусстве воспитания и формирования добродетели, то есть прежде всего о природе добродетели, и прежде всего о храбрости, к которой предмет обсуждения имеет самое близкое отношение. Таким образом, не два юноши, а два мужчины являются предметом обсуждения.
Сократ впервые обращается к Лахету, p. 190 D.-194 C. Первое определение, которое он дает, как и в «Хармиде», связано с внешним обликом. Храбрость – это стоять на своем в бою. Но Сократ напоминает ему, что храбрым можно показать себя и с помощью замаскированного бегства, и, несомненно, это тоже относится сюда, когда сам Лахет уже напомнил нам выше о храбрости, с которой Сократ и он отступали в Делионе, сражаясь бок о бок, p. 181 A. В. В целом, однако, упоминается только частность, а не целое. Есть не только доблесть в бою, но и в других случаях, например, в умении управлять своими желаниями.
Второе объяснение, что это стойкость (????????) души, снова, как и у Хармида, переводит ее от чисто внешнего к психическому поведению. Но если предыдущая трактовка была слишком узкой, то эта – слишком широкой. Необдуманное упорство достойно порицания; поэтому доблестью является только то, что связано с размышлением. Таким образом, по крайней мере, сократовский элемент знания уже привнесен и заложен фундамент исследования. Но все же слишком расплывчато. Очень многое зависит от того, на чем основано это размышление. Например, тот, кто при любых обстоятельствах решается напасть на врага только там, где вдумчивое рассмотрение убеждает его, что все внешние обстоятельства благоприятствуют ему, скорее труслив, чем храбр.[56 - Vgl. auch Steinhart a. a. O. I. S. 351.]
Во второй части Никий дает определение, которое он явно отличает, p. 194 C. D., первоначально заимствованное у Сократа, что доблесть – это знание того, что страшно и чего не следует бояться. Только то, что вызывает страх, является надвигающимся злом, а то, что не вызывает страха, – надвигающимся благом. Теперь нет знания, которое учило бы только будущему в отношении своего предмета, но всякое знание учит о будущем без всяких временных различий. Соответственно, стойкость также должна быть знанием всех благ и зол, но тогда она совпадает с общей добродетелью, так что обнаруживается понятие этого, но не конкретное представление о стойкости.
II. Основная идея
Таким образом, разговор снова заканчивается, по-видимому, довольно скептически, и можно удивиться, что Платон, похоже, отвергает собственное определение храбрости своего учителя. На самом деле он лишь хочет защитить ее от последствий, которым подвергает ее относительность сократовской точки зрения. Ведь таким образом в ней можно было бы найти и учет внешних преимуществ, отвергнутый выше как недостаточный. Именно на это нацелен аргумент Никия о том, что важны не физические блага и пороки, а только истинное лучшее в человеке, p. 195—196 A. Таким образом, сократовское определение восходит к абсолютному образцу высшего блага, полученному в «Лисиде».
И если, с другой стороны, таким образом обнаруживается только общая добродетель, возникает вопрос, не является ли целью диалога на самом деле именно приведение понятия храбрости к общему понятию добродетели посредством анализа понятия храбрости, т. е. различий между отдельными добродетелями в целом, однако если храбрость можно назвать добродетелью в ее отношении к будущему, представить ее несущественной, но в особенности опровергнуть обычное представление о отдельно существующих добродетелях, то, скорее, тот, кто обладает одной из них в самом высоком смысле, тем самым непосредственно несет в себе и все остальные.
Ошибка Никия состоит лишь в том, что он не осознает всей полноты применяемого им образца и что добродетель, тем не менее, распадается для него на множество отдельных добродетелей, что он, таким образом, снова отступает на точку зрения простого рассудочного расчета конкретных благ и зол и упускает из виду, что их познание уже непосредственно связано с познанием высшего блага, поскольку только это делает их тем, чем они являются.
Теперь, если различие добродетелей, которое все же проявляется, не лежит в природе предмета добродетели, оно может быть обусловлено только различием субъективностей, несовершенством способа присвоения, непобедимым различием природных склонностей и недостатком воспитательного процесса. В этом случае, однако, легко показать, что даже конкретная добродетель, зафиксированная как таковая, проявляется таким образом лишь односторонне и несовершенно.
Таким образом, это даже вторая односторонность Никия, благодаря которой получается тот неудовлетворительный результат, что он сам лишил почвы отличительные особенности доблести, поскольку он со своей стороны полностью отбрасывает практический элемент мужества и энергии, который ???????? у Лахета – опять-таки односторонне – возник. Как бы Сократ ни соглашался с ним, когда он отрицает храбрость животных и наделяет их грубой храбростью (????????), p. 196 f., это согласие, p. 197 1), все же содержит ироническую примесь, поскольку это различие между понятиями восходит к софисту Дамону, другу Никия, а от него – к его собрату по уму Продику. Хармид, p. 163 D., также предлагает параллель с этим. Этот элемент действительно является общим для человека и животных, но, направляемый правильным знанием, он приобретает более высокое значение.
Соответственно, в двух полководцах, по сути, проявляется лишь противоположная односторонность: в Лахете – бешеная энергия, в Никии – обдуманное благоразумие, пусть и пронизанное предчувствиями чего-то высшего, и лишь в Сократе – высшая мудрость, которая несет в себе эти две противоположные склонности как отстраненные и подчиненные моменты,[57 - Unrichtig Steinhart a. a. O. I. S. 348:,Wenn sich die Klugheit des Einen (Nikias) mit der K?hnheit des Andern (Laches) verb?nde, w?rden wir ein Bild den wirklich tapferen Mannes haben. Bis auf diesen Punkt stimme ich mit seiner Entwicklung S. 347 – 350 ganz ?berein.] которая готова рискнуть всем ради высших благ жизни с решимостью Лахета, не теряя благоразумного спокойствия Никия, словом, ту всестороннюю гармонию жизни и учения, которую восхваляет в нем Лахет, с. 188 C.– 189 C.
И если из заключительных слов диалога может показаться, что Сократу также не хватало этого высшего знания, поскольку он замечает, в соответствии со столь неудовлетворительным результатом поиска, что все они оказались невежественными в отношении природы храбрости и сами нуждаются в учителях, p.200 E. f., то здесь кроется лишь характерная черта сократовского обучения, совместный поиск истины со своими учениками. И Сократ объявляет себя готовым к этому учению не только для молодых, но и для стариков и мужчин, и при обстоятельствах, очень похожих на обстоятельства Крития в» Хармиде», Лахеде рекомендует здесь это учение, как бы безуспешно оно ни было, с. 200 С.
Если, таким образом, беседа имеет уклон в сторону общей добродетели, то из этого следует, что речь идет о правильном знании в целом, которое здесь выводится на первый план по контрасту со всеми другими, односторонне теоретическими или практическими уклонами. Таким образом, прежде всего в противовес софистическому иллюзорному знанию, которое не держится, когда наступает реальный момент действия. Реальным представителем этого является гопломахия Стесилея, которая только что произвела свои достижения, так что нелепая история, которую Лахес рассказывает о его неудачном поединке с серповидным копьем, p. 183 C.-184 A., отнюдь не лишена смысла,[58 - Steinhart а. а. О. I. S. 347.] а скорее удивительно контрастирует с описанием храбрости Сократа в «Делионе» того же Лахета; но есть и более общий намек на софистику как самонадеянного учителя добродетели, p. 186 C.
Таким образом, в противовес бессодержательному практицизму и чисто эмпирическому образованию, к которому Лахет относится с большой похвалой, но недостаток которого достаточно ярко проявляется в том, что Аристеид и старший Фукидид не позаботились даже о следующем, а именно о воспитании своих сыновей, а также в том, что само это направление несет в себе ощущение его недостатка, что видно не только по Лахету, многократно ставящему себя в этом отношении позади Сократа и не гнушающемуся учиться у него, p. 200 C., 189 А. В., но даже в двух скупых стариках, которые, по крайней мере, хотят восполнить то, что они упустили в своих сыновьях, хотя, однако, сама их скудость подвергает их опасности быть обманутыми напыщенной мнимой мудростью и прибегнуть ко всякого рода современным воспитательным хитростям,[59 - Hermann a. a. O. I. S. 450 f.] в то время как они упускают из виду истинную помощь, которая так близка к ним, в то время как они знают Сократа только понаслышке, хотя он сосед Лисимаха и сын его самого близкого друга; тогда как образованная молодежь – в своих сыновьях – уже гораздо больше знает о том, как правильно поступить, p. 180 E.f. И, в-третьих, в противовес современному неполному образованию, которое без тщательного изучения своего собственного питается в равной степени как софистическими, так и сократовскими воспоминаниями, не будучи в состоянии их систематически обработать по этой самой причине. Это направление представляет Никий (см. с. 194 D. 197 D. cf.200 B.,[60 - Ebenda I. 8. 449 und 615. Anm. 313.] который, таким образом, также принимает сторону более здравых взглядов Лахета в пользу гопломахии, хотя бы потому, что она является продуктом современного образования. Как мы видели, Никий и Лахет, как персонажи диалога, изначально относятся к непосредственному предмету обсуждения, храбрости, и поэтому являются здесь фактическими собеседниками Сократа.
По отношению к дальней цели, которая витает на заднем плане, два старика также имеют смысловую нагрузку; как ораторы, они сами находятся на заднем плане, появляются только в прологе и в конце. Они представляют то же направление, что и Лахет, только с более ограниченным полем зрения.
Таким образом, методологическая сторона произведения находится в полной гармонии с реальной тематикой. Это особенно заметно в жарком споре между двумя полководцами по поводу их различных взглядов на доблесть и той посреднической опекой, которую таким образом возлагают на Сократа, с. 194 D.-197 E., ср. с. 200 A.-C. Таким образом, наглядно показаны противоречия, в которые неизбежно впадает здравый ум и из-за которых возникают догматизм и разногласия, а в полной неспособности Лахета прозреть истину, заключенную во мнении Никия, выражается лишь диаметрально противоположное представление о намерениях этих двух людей в отношении гопломахии. Иными словами, слепой практик может так же легко стать жертвой иллюзорного образования из-за ощущения его недостатка, как и, с другой стороны, если он более просвещен, понять в одном месте, где можно найти правильное образование, как здесь тот же Лахет отбрасывает ядро со скорлупой у Сократа, а в другом месте возвращает ядро со скорлупой. С другой стороны, только учение о понятиях примиряет односторонние противоположности образного сознания, именно потому, что оно одно умеет отсеивать ложное от истинного, с чем и связана рекомендация сократовского метода обучения для всех возрастов, с. 201.
Короче говоря, цель диалога Лахета – утвердить стойкость, как добродетель, по-видимому, наиболее разнородную из всех других, как тождественную с единой добродетелью, и тем самым подготовить единство и неделимость добродетели как познания высшего блага, но также представить сократовское учение о понятиях как единственно истинную форму этого знания по отношению ко всем другим школам мысли, а значит, представить сократовский метод обучения как единственное средство истинного нравственного воспитания.[61 - Не отличается в принципе уже Герман а. а. О. I. p. 450 f. и 616. прим. 315. Слишком много, однако, остается у Штейнхарта а. а. О. I. pp. 342, 345, останавливается на следующем предмете обсуждения – храбрости, при этом обсуждение неизбежно неорганично распадается на главную и второстепенную цели, из которых последняя – одновременно свидетельствовать в пользу строгого учения, чистого нравственного учения, гармоничной добродетели Сократа – выходит далеко за рамки первой. Согласно Stallbaum Opp. V, 1. p. 4, цель дать пример совершеннейшей доблести в лице Сократа еще более ограничена, тогда как согласно Sоcher, op. cit. p. 105, необходимость духовного воспитания весьма неопределенна.]
III. Отношение к ранним диалогам
Уже достаточно обсуждалось другими, что Лахет, по сходству места действия (палестра), по одинаковому богатству декораций, по появлению Сократа в самой бодрой зрелости, по одинаковой беседе с людьми из дружеских кругов, полным дыханием гармонии и мира, которое разлито по всем этим творениям и которое придает даже полемике примирительный характер, одинаковым направлением полемики, сходством или равенством композиции, особенно у Лисия и Хармида.[62 - Steinhart а. а. О. I. S. 312 – 345. Hermann а. а. О. I. S. 448, 449.]
В частности, Платон показывает, что то, что он критикует в двух полководцах, проявляется в их раздраженном взаимном споре и вкладывается в уста друг друга, а не Сократа, так что это обнаруживается только за другим признанием этих людей! Здесь Лахес как мужчина представляет то же направление, что Лисий и Хармид как мальчики, а Никиас то же, что Менексен и особенно Критий, за исключением того, что, согласно различию темпераментов, в более резком и утонченном Критии больше пагубного, в Никии же с его вдумчивой, рассудительной серьезностью высвечивается более положительная сторона софистических воспитательных элементов.
Даже если у нас нет других доказательств позднейшего сочинения Лахета, достаточно отметить переход от юношеского к мужскому возрасту собеседников в трех диалогах. Действительно, Лахет обобщает все их возрасты, а также говорит именно о завершении предыдущего этапа пропедевтических писателей; он произносит общее слово, призывающее все возрасты к сократическому образованию как истинному лекарству от бед того времени.
В этом свете не приходится удивляться тому, что методологический аспект работы представлен лишь в яркой форме. Просто потому, что необходимость совместного сократовского философствования уже была научно продемонстрирована в «Лисиде», а отсеивающая и опосредующая сила учения о понятиях – в» Хармиде».
После всего этого взаимосвязь четырех предыдущих произведений может быть определена более правильно, чем мы это делали до сих пор: меньшем Гиппии доказывается единство добродетели и знания, Лисий более точно определяет предмет этого знания как высшее благо и способ его приобретения как сократовскую общность философствования, Хармид доказывает единство этого знания, формально рассматриваемого, само по себе, Лахет начинает делать то же самое в отношении реального предмета этого знания; но это начало лишь относительно завершается в Протагоре.
Протагор
I. Изложение
В «Протагоре» форма пересказа Сократом состоявшейся беседы приобретает более развитый вид формального вступительного диалога, хотя и с неназванным другом. Мы выделяем из этого изложения, с.309 – 310, только заявление Сократа о том, что он предпочел престарелого Протагора своему юношески прекрасному любимцу Алкивиаду, с. 309 В. C. Привлечь внимание к внешности великого софиста – лишь второстепенная цель;[63 - Was Steinhart а. а. О. I. S. 400 hervorhebt.] гораздо важнее, что он с самого начала призван символизировать живой пыл Сократа к истине и знанию, который уже был теоретически представлен в «Лисиде» как стремление к благу. Однако в своем практическом выражении оно заметно отличается от той формы, в которой оно появилось в «Харминиде», и вызывает нарекания, хотя и необоснованные, у некоторых комментаторов.[64 - Ast a. a. O. S. 426, vorsichtiger Sоcher а. а. O. S. 132.] Ведь там она была направлена с сильным чувственным пылом на красоту юношеского тела и находила свое оправдание только в предположении, что в таком теле будет обитать и прекрасная душа (Charm, p. 154 D. E.). Здесь же, напротив, этот элемент заметно отступает перед предполагаемой высшей мудростью престарелого Протагора, и мы с самого начала видим дух большей научной чистоты и глубины, который пронизывает всю беседу.
Сама она теперь делится на шесть основных разделов, некоторые из которых еще более подразделяются сами на свои части, в их числе:
II. Первый раздел о природе софистики
Первый раздел снова делится на три меньшие части, а именно: диалог с Гиппократом, с.310 A.– 3I4C., далее диалог с Протагором, с.316В.-319А., оба о понятии «софистика», из которых последний до некоторой степени продолжает первый (см. ниже),[65 - Schleiermacher a. a. O. I, 1. S.223.] наконец, между ними оживленное объединение софистов в доме Каллиаса, которое пока имеет смысл и внешнего обозначения этого понятия, с.314 Е.– 316В.
Как Гиппократ на вопрос Сократа, что он надеется получить от софистов, мог дать лишь расплывчатый ответ: знание (?? ????) или умение говорить (??????), не уточняя предмета, так и сам Протагор обещает своим слушателям стать лучше, то есть искуснее и знатнее. То есть сделать их более умелыми и знающими, не говоря, что именно, и только в ответ на дальнейший вопрос Сократа он называет политику или гражданскую добродетель предметом своего учения.
Если уже из этого видно, что разрозненным знаниям софистов не хватает объединяющей связи понятия, того самосознания своей деятельности, которое, по словам Хармида, является подлинным признаком всякого истинного знания, то практические последствия этого уже ярко проявляются для нас в «собственном разделении софистики на множество субъективных начинаний и основанной на этом ревности ее приверженцев.[66 - und 66) Hermann a. a. O. I. S. 460.] Таким образом, их стан предстает перед нами сначала внешне в виде трех отдельных групп вокруг трех главных вожаков – Протагора, Гиппия и Продика. Таким образом, Протагор стремится похвастаться перед двумя другими о приобретении нового ученика, с. 317C. Как отец всей этой деятельности, как первый, кто имел дерзость назвать себя софистом, то есть самостоятельно мыслящим человеком, p. 316B. —317C., он смотрит на них с презрением, с. 318D.E..[67 - Hermann a. a. O. I. S. 460.]
Таким образом подчеркивается противоречивость, которая, по общему мнению, уже заключается в софистике, в том, что образованная молодежь, представителем которой является Гиппократ, обращается к их учению, готовая пожертвовать собственным имуществом, а также имуществом своих друзей ради вознаграждения этих чужестранцев, как Гиппократ, c. 310E., или даже тратить царские сокровища на их развлечения, как Каллий, причем безграничное почтение к ним проявляется внешне в комической форме, как у спутников Протагора, p. 315 B. ср. p. 334 C., 339 D., а большинство из них сами стыдятся называться софистами, как это делает Гиппократ, p. 312 A., и признает Протагор, p. 316 E..
Но если у них нет правильного знания как плода, то не может быть и подлинного побуждения к истине как корня, а только низший побудительный инстинкт внешней славы и «делания денег». Приведенные выше ссылки на финансовые жертвы, которые они приносят своим поклонникам, относятся именно к этому. Именно к ним они относятся, когда их описывают как «торговцев наукой», предлагающих все свои товары, p. 313 C. D., для которых логично, что их ученики не имеют ничего общего с истинным знанием, и вся деятельность которых скорее основана на «обмане и плутовстве». По собственному объяснению Протагора, именно к этому, например, сводится его открытое признание себя софистом или самоучкой, потому что он заметил, что при такой открытости человек лучше всего владеет собой по наружности, лучше всего противостоит зависти, с. 317B.C., и есть еще достаточно других примеров, с. 318A, 328 B. vgl. 335A.[68 - Hermann a. a. O. I. S. 022. Anm. 337.] Да, даже попытка софистов перенести истоки своего искусства в седые доисторические времена, c. 316D. ff., является лишь обманчивой маскировкой, чтобы облечь его в форму древнего посвящения. И поэтому негодование, которое выражает против софистов привратник Каллий, выражает, кроме ненависти верного слуги к грабежу своего господина,[69 - H. M?ller a. a. O. I. S. 503. Anm. 8.] в целом инстинктивное отвращение неиспорченной человеческой природы к этой гильдии.[70 - Hermann a. a. O. I. S. 459.]
Однако именно по этой причине софистика в конечном счете также духовно и нравственно разлагает. Знание – это пища для духа, и как различные виды пищи полезны для тела, так и для духа они отчасти полезны, а отчасти губительны. Поэтому существует потребность в высшей науке, которая проверяет и оценивает, и именно это высшее требование к знанию отпугивает учеников от софистики.
Таким образом, не только низменность руководящих мотивов софистов наиболее грубо противостоит подлинному инстинкту истины Сократа, как он выразился ранее, но и сам Сократ уже противопоставляется софистике по всем пунктам. Таким образом, согласно приведенной выше аналогии разума с телом, Сократ предстает как истинный врач души, поскольку в беседе с Гиппократом приводится пример того, как его учение побуждает к собственному исследованию и, следовательно, приводит к тому подлинному самосознанию знания для учеников и учителей, которое теперь одно также противостоит пагубному влиянию софистики уверенной критикой и умеет отделить истинное, что можно найти в них, от ложного и, следовательно, умеет само извлечь из них пользу, c. 313E. И это объясняет, почему Продик и Гиппиас, сами софисты, должны быть полезны в этом исследовании, c. 314B.C.; здесь выражено намерение вовлечь их в беседу вместе с Протагором и таким образом заставить софистику представить со всех сторон, что только и может привести к ее всесторонней оценке.
III. Не поддающаяся обучению гражданская добродетель
Теперь Сократ сомневается в обучаемости гражданской добродетели, чтобы еще яснее показать, что добродетель, которую имеет в виду Протагор, если она вообще заслуживает этого названия, не может быть по крайней мере истинной, понятийной добродетелью, основанной на знании, чтобы заставить его заявить, что он не считает добродетель знанием, и тем самым ввергнуть его в неустранимое противоречие, провозглашая ее все же обучаемой, поскольку научить можно только знанию. В оправдание этого сомнения он с резкой насмешкой над афинской демократией указывает на то, что во всех других делах знающие люди остаются советниками государства, а в политических делах совещаются все и каждый, и затем на пример неразумных сыновей величайших государственных деятелей, в силу чего последним косвенно также отказывают в осознанной добродетели, с.319A.– 320C.
Протагор сначала пытается опровергнуть эти возражения с помощью мифа, с. 320D. – 322D., чтобы опровергнуть их. Нельзя отрицать, что в некоторых моментах он снова демонстрирует «грубо материалистический образ мышления», что высшая жизнь человечества «вытекает» только из нужды и потребности, что «рациональная способность» в человеке рассматривается только как замена недостаточной физической одаренности». Кроме того, в ненаучной форме не объясняется, как человеческий род мог существовать без двух основ морали – стыда и справедливости, и не обсуждается содержание самих этих двух понятий. Наконец, ни то, ни другое не формируется у смертных изнутри, а лишь даруется им извне по указу Зевса.[71 - Schleiermacher a. a. O. I, 1. S. 233 f. Ast n. a. O. S. 71 f. Hermann a. a. O. I. S. 460. Steinhart a. a. O. I. S. 411.]
С другой стороны, однако, миф содержит глубокую истину, что первые элементы добродетели, чувство стыда и чувство чести, уже заставляют человека трепетать перед повседневной деятельностью, рассчитанной только на самосохранение и удовольствие, но что внешней торговли и художественной деятельности человек может достичь собственными силами, тогда как справедливость и нравственность могут прийти к нему только от бога. Таким образом, материализм протагоровской точки зрения с течением времени, по крайней мере частично, нивелируется. Жаль только, что это верное понимание вновь значительно нарушается и омрачается тем, что поклонение богам якобы старше стыда и справедливости! Конечно, есть такое поклонение без стыда и без справедливости, которое служит лишь самой грубой корысти, ибо даже простое внешнее благоразумие может научить большей силе, но не большей святости и благости богов, и так же, как Платон нападает на это обычное благочестие в «Эвтифоне», он, несомненно, хотел донести ту же мысль и здесь.[72 - Schomann, Des Aeschylos gefesselter Prometheus. Greifswald 1844. 8. S. 52.]
Но из этого не следует, что Протагору следует приписывать четкое осознание этого. Если бы это было намерением Платона, он, вероятно, не просто описал бы, как отношения людей друг к другу изменяются благодаря стыду и справедливости, но и прямо подчеркнул бы, как благодаря им изменяются и отношения к богам, поскольку только таким образом обретается настоящая добродетель. Не менее верно и то, что эти две основы добродетели присущи всем людям без исключения и не разделяются, подобно склонности к искусствам и ремеслам, между разными людьми.[73 - 72) Diese positive Seite des Mythos hat zuerst Steinhart a. a. O. 1. 8. 422 – 425 hervorgehoben.] То, что добродетель не является непосредственно знанием, а изначально лишь инстинктом, общим для всех и заложенным Богом, и что лишь в очень редких случаях из этой основы возникает формальное знание, – вот что, по-видимому, хотел указать нам Платон с помощью этого мифа.
Впоследствии софист, по той самой эмпирической причине, что никто не отказывает себе в нравственности, что все беззастенчиво отрицают мастерство в других искусствах, стремится доказать общность добродетели, с. 323A.C. И вот, чтобы подтвердить, что афиняне действительно считают добродетель обучаемой, он подчеркивает воспитательную силу музыки, гимнастики, закона, наказания как сдерживающего и исправительного средства, а также общественной жизни в целом, с.323C. – 324D. Наконец, он объясняет заблуждения сыновей великих отцов различием в склонности к добродетели, с. 324D. – 328D.
Нет сомнения, что Платон и здесь хочет вменить софисту правильные идеи, поскольку он позволяет Сократу выразить тот же взгляд на наказание в «Горгии» (см. особенно с. 525 B.), а в «Республике» считает музыку и гимнастику необходимыми средствами воспитания.[74 - 73) Steinhart a. a. O. I. S. 423.] С другой стороны, однако, односторонность и противоречия еще более очевидны. Теперь становится ясной основная ошибка Протагора, а именно то, что он не признает никакой высшей добродетели, кроме той, что вырабатывается этими средствами, из которых, очевидно, не вытекает никакого знания, и поэтому он путает воспитание и обучение.
В самом деле, он даже не объясняет, почему эта общая основа добродетели не развивается сама по себе, а требует обучения со стороны других. Он даже в некоторой степени противоречит сам себе, когда предполагает различие в предрасположенностях, при котором добродетель, по крайней мере, перестает быть если не общим, то хотя бы одинаково разделяемым благом; при этом он опять-таки оставляет неясным, является ли эта предрасположенность синонимом инстинкта врожденного стыда и чувства права или нет.
IV. Предварительное доказательство единства добродетелей
Сократ не рассматривает ни один из этих пунктов напрямую. Скорее, он добавляет к продолжающемуся разговору Протагора несколько предварительных напоминаний о разнице между эпидейктической речью и дискуссией p.329A.B.,[75 - Schleiermacher а. а. О. I, 1. S. 223 f.] а затем переходит к дискуссии с самим Протагором, переходя от вопроса о научаемости добродетели к вопросу о ее единстве или большинстве. Однако мы можем с самого начала предположить, что единство добродетелей заключается в их общей отнесенности к знанию или мудрости, т.е. что предложенный вопрос, по сути, является прямым продолжением[76 - Genaueres bei Steinhart а. а. О. I. 8. 413.], на что уже указывает замечание Протагора о том, что мудрость – это самая большая часть добродетели, р.330 А. И именно к этой цели направляется запрос, пока, почти достигнув ее, он не прерывается отрицанием Протагора, проведенным с беспочвенным смешением абсолютного и относительного, что благое и полезное – одно и то же, p. 333 E. – 334 C. прерывается.
Ибо оказывается, что добродетели не различаются ни как качественные части организма, ни как количественные, см. с. 329 С.-330С. Таким образом, благочестие и справедливость, с.330 С.-332 А., затем благоразумие и мудрость, с.332 А.-333 С., наконец, справедливость и благоразумие, с.333 D.E.
Согласно этому, на первый взгляд, остается только третья из выдвинутых возможностей, а именно чисто символическое различие, p. 329 C. в конце, и это предположение, кажется, подкрепляется тем, что в противном случае обсуждение мудрости и благоразумия оказывается слишком большим, поскольку учение о том, что каждое понятие может иметь лишь обратную противоположность, не оставляет вообще никакого различия между ними, при условии, что оба предполагаются как отличие от неразумного (????????).
С другой стороны, однако, это должно привести лишь к приблизительному подобию обеих добродетелей, с. 333 В. Вопрос о возможном различии остается, таким образом, открытым, и уже одно это, а также внезапное окончание, придает всей аргументации отпечаток предварительности.
Этот окончательный обрыв Протагора теперь не считается опровержением, но только его форма, т. е. непрерывное изложение, подвергается новой и более тщательной атаке, и ему посвящена более длинная междометная дискуссия, с. 334 D. – 338 E., в которой два других софиста также имеют возможность продемонстрировать свое искусство.
V. Методология философского диалога
Цель заключается в том, чтобы более точно описать различные школы мысли, на которые, как мы уже видели, разделилась софистика. В первом разделе Гиппократ уже представил ораторское искусство, а Протагор – политику как предмет софистического учения, причем последний презрительно отмахнулся от Полигистории Гиппия, p.318 E. Протагор и Продик теперь ясно представляют два основных направления софистики того времени – этико-политическое и риторико-грамматическое; Гиппий принимает участие в обоих без какой-либо автономной силы 76). Вопрос о том, почему последнее направление рассматривается так кратко, объясняется отчасти тем, что собственно предмет нашей работы – этический, а отчасти смущением Гиппократа по поводу более близкого предмета этого ораторского искусства. Либо это снова этика и политика, либо она лишена какого-либо особого содержания, и все, что остается, – это многословие Продика или распавшийся полиглотизм Гиппия.
Но и в рамках этико-политической софистики следует различать две противоположные стороны: односторонне-консервативную, стремящуюся оправдать все, что существует в государстве и обществе, как это представляет Протагор в своей лекции во втором разделе, и односторонне-революционную, предполагающую неустранимое противоречие между позитивным и естественным правом и желающую признать нормой только последнее. Гиппий выражает эти принципы здесь.[77 - Steinhart a. a. O. I. S. 406.] В этом отношении данный раздел также существенно продолжает нить второй части и, таким образом, теснее связывает ее с первой. В отличие от этих двух крайностей, Платон, как мы пытались показать во втором разделе, не презирает добродетель, основанную только на положительно установленном, но рассматривает ее лишь как предварительный этап и хочет, чтобы все сущее было рассмотрено в соответствии с понятием добродетели, когда оно будет признано и, где необходимо, преобразовано и облагорожено.[78 - Ebenda I. S. 423 f.]
Таким образом, эта более приближенная к жизни софистика оказывается столь же принципиальной, как и ее формалистическая родственница. Кроме того, догматизм, равнодушие к истине и тщеславное самомнение заново проявляются в первоначальном отказе Протагора сражаться с противником на его оружии, с. 335 A., а также в противоречивом хвастовстве тем, что он способен вести любую научную беседу так же хорошо, как и длинную речь, с. 334 E. 335 B., и очевидно, что явная цель этих длинных лекций – затруднить слушателю внутреннее понимание и тем самым критику; очевидно, что они являются частью целой паутины софистики, p. 336 C. D.
Помимо различных школ собственно софистики, изобретательные дилетанты и эклектики, использующие софистику и сократизм вместе для своих целей и стремящиеся извлечь из обоих как бы лучший дух, находят своих представителей в Критии, Алкивиаде и даже Каллиасе.
Наконец, Сократ борется с посредническим предложением самого Гиппия в непрерывном дискурсе, который характеризуется прежде всего строго диалектической процедурой,[79 - und 80) Schleiermaeher a. a. O. I, 1. S. 224.] несомненно, чтобы показать, что только истинный философ, поскольку он способен использовать разговорную форму, также знает, как использовать непрерывную речь в подлинно понятийной манере и будет делать это при определенных обстоятельствах.
VI. Объяснение поэмы Симонида[80 - Симони?д Ке?осский – один из самых значительных лирических поэтов Древней Греции. Был включен в канонический список Девяти лириков учёными эллинистической Александрии.]
Протагор, который теперь берет на себя роль вопрошающего, сводит разговор к поэме Симонида, не видя, однако, никакой конкретной цели, к которой он хотел бы привести таким образом, а лишь стремясь запутать Сократа в противоречиях[81 - Schleiermaeher a. a. O. I, 1. S. 224.]. И снова, следовательно, мелкая склочность и полная неспособность достичь подлинно философского развития!
В целом этот раздел имеет и методологическое значение и дополняет картину софистической деятельности, добавляя к рассмотренным до сих пор формам преподавания непрерывную логико-демонстративную и вновь столь же непрерывную, но поэтико-мифическую лекцию, истолкование поэзии, в которой софисты считали себя предпочтительно сильными, p. 338 E. f..[82 - Vgl. Schleiermaeher a. a. O. I, 1. S. 228.] 338 E. f., так же как они любили описывать великих поэтов прошлого как своих предшественников, см. p. 316 D.
Как само собой выясняется, что мифы содержат некоторую истину, но даже в самом благоприятном случае ничего не могут доказать, как непрерывная лекция затрудняет критику и истинное понимание аудитории, так и предпочтение толкования поэзии прямо описывается как признак собственной бедности мысли, отсутствия понятий и некритичности. В заключение Сократ прямо подчеркивает, что такой подход, всегда основанный на чужих мыслях, недостоин образованных людей, p. 347 C. – 348A.
Такая процедура приводит к слепой преданности этим чужеземным авторитетам и, следовательно, к неизлечимой неловкости, когда различные авторы противоречат друг другу, как в данном случае Гесиод и Симонид (ср. с. 340 D. со с. 344 В. С.), или когда один и тот же автор не согласен с самим собой. Последнее, однако, не отрицается самой софистикой; напротив, она усугубляет безнадежную путаницу, поскольку ее непонимание выискивает противоречия там, где их нет. Так и Протагор с Симонидом, который не различает бытие и становление. Насколько произвольна и неопределенна эта основа без направляющей руки учения о понятиях, насколько она может быть использована для доказательства с самых различных точек зрения путем искусного и тонкого толкования,[83 - R?tscher, Das platonische Gastmahl. Bromberg 1832. 4. S. 6., der nur mit Unrecht den Zweck des ganzen Abschnittes hierauf beschr?nkt.] Платон показывает еще более преувеличенно тем, что заставляет Сократа дать одно за другим три различных объяснения, а затем – весьма забавно – заставляет Гиппия предложить четвертое, p. 347 A. B. Из них первое на самом деле сделано для того, чтобы искусственно согласовать два противоречащих друг другу авторитета, Гесиода и Симонида, с. 340C.D. Тем не менее, Протагор, опять же весьма характерный в этом отношении, оспаривает его, потому что тогда Симонид не сказал бы правды, как если бы переводчик был обязан искусственно объяснять своему писателю мысли, которые он считает истиной! Продик же одобряет второе толкование, с (p.) 340E.-341E., как бы оно ни было явно неверно и как бы очевидно ни было сделано лишь для того, чтобы высмеять его; тем не менее он одобряет его, потому что таким образом он получает Симонида в качестве родоначальника своей просодии.
С другой стороны, нет никаких оснований полагать, что третье толкование, которого придерживается Сократ и которое он так подробно разрабатывает, также не имелось в виду всерьез, p. 342 A. – 347A. В тоне полной искренности Сократ заявляет, что его много занимала эта поэма, с. 339B., и достаточно ясно подразумевается, что и в этом отношении он способен превзойти софистов, победить их на их же поле, с. 341 E. f., как и прежде, в подлинно научном применении идеи беспрерывности рассуждения.
И поэтому позитивный смысл состоит в том, что и в этой области учение о понятиях вносит ясность и порядок перед лицом противоречий софистики.[84 - Hermann a. a. O. I. S. 623 f. Anm. 341.] Так же как с учениями софистики, p. 313 f., она поступает и с изречениями поэтов: именно потому, что она не считает их безусловными авторитетами, ей не нужно их искажать, а можно принимать их беспристрастно, и, рассматривая их в таком виде, она одна в состоянии извлечь истинную пользу из чужих мыслей, даже если пользование ими всегда будет для нее только подчиненным.
В общем, есть что-то правильное в том, что софисты претендуют на роль преемников поэтов, ибо и в тех, и в других истина смешана с заблуждением, поскольку лишена прочной связи с понятием. Поэтому Сократ также пародирует это, называя софистами семерых мудрецов и спартанцев, p.342 f. Они служат образцами для Сократа благодаря своей зернистой краткости, подобно тому как поэты служат образцами для Протагора благодаря своим длинным и образным речам.[85 - Steinhart a. a. O. I. S. 407 f.]
Кстати, синонимия Продика заслуживает особого внимания, поскольку, с одной стороны, Сократ призывает Продика на помощь против неразличения бытия и становления у Протагора и признает себя его учеником, p. 340. esp.341 A., с другой стороны, как я уже сказал, во втором из своих объяснений он явно насмехается над ним. Одно из них действительно будет иметься в виду так же серьезно, как и другое. Различие между понятиями, несомненно, является существенным элементом учения о понятиях, но в отрыве от своего контекста оно превращается в игривую придирку, ср. с. 337 A. ff. и 358 A.E.
Более того, внутренний ход мысли диалога теперь также частично продолжен этим комментарием, а именно в том, что частично более ясно выражена уже упоминавшаяся в протагоровском мифе идея о том, что только Бог неизменно благ, но человек находится в постоянной борьбе и стремлении к добродетели, а частично условно подчеркнута другая идея, что ни один человек не является добровольно злым.[86 - Steinhart a. a. O. I. S. 414 f., vgl. 423 f. Zeller, Plat. Stud. S. 162. Anm.]
VII. Восхождение высокой добродетели к знанию
Методологическое обсуждение диалога завершается теоретическим обоснованием предпочтения разговорной формы. Взаимное позитивное обогащение мысли и взаимная критика или, пусть даже односторонняя, беспристрастная критика возможны только через нее, с. 348 B. E.
Наконец, беседа возвращается к обсуждению единства добродетелей, которое было прервано в третьем разделе. Там храбрость осталась нерассмотренной, и Протагор продолжает за нее держаться. Но и она предстает как смелость, основанная на проницательности (???????????), с.349C.-350C. Забавно, как софист, вопреки этому результату, полученному благодаря его уступке, что не все смелые люди смелы, хочет отменить эту же уступку и, в самом безумном противоречии с самим собой, объявляет смелость чистым природным качеством, но смелость скоро становится таковой, но также становится и делом проницательности, аффекта и, наконец, безумия, тогда как прежде он представлял смелость как необходимый атрибут смелости, с. 350C. -351B.
Это возражение тоже не опровергается, но опять-таки служит лишь для того, чтобы заново прервать прежний ход развития. Единство добродетелей уже представлялось выше лишь приблизительным, и здесь же стойкость выступает как единое целое с мудростью, но не без сохранения природного элемента смелости для себя как особого свойства. Теперь происходит поворот, когда появляется только общая сторона знания.[87 - Schleiermacher а. а. О. I, 1. S. 416.] Предыдущему косвенному аргументу в пользу тождества добродетелей в мудрости теперь противопоставляется второй, более понятийный, а именно тот, что он выводится из природы самого предмета добродетели, блага, и тем самым одновременно подводит последнюю к более конкретному определению.
Хорошее определяется более точно, чем приятное. Однако даже Протагор хочет принять это уравнивание только как гипотезу, с.351Е., и вообще считает более безопасным различать хорошее и плохое, приятное и неприятное удовольствие, с.351В. С. Вопрос о правильности или неправильности этой гипотезы остается нерешенным в диалоге.[88 - Vortrefflich Socher a. a. O. S. 232, auch Steinhart a. a. O. I. 8. 418—420.]
Весь аргумент, однако, очевидно, является просто гипотетическим, чтобы показать, что даже с точки зрения низкого эвдемонизма добродетель предстает как знание, а именно как разумный расчет приятного, т.е. более высокой степени и большей продолжительности удовольствия и его большого освобождения от боли, с.351B.-359A. Все это рассуждение, однако, создает впечатление, что оно лишь восполняет якобы еще отсутствующее определение доблести, и только оно развивается в соответствии с только что полученным результатом, как знание страшного и нестрашного, p.359A.-360E.
Теперь это дает возможность еще на шаг углубиться во внутреннюю природу сократовского метода, назвав его гипотетическим методом, с.351Е., что, кстати, вполне согласуется с предыдущими замечаниями, особенно с.348В.Е., представляя свои или собеседника взгляды как гипотезы на научное рассмотрение, чтобы получить их критику, подтверждение или опровержение, путем развития их последствий.
И, наконец, положение о том, что никто не бывает добровольно злым, теперь также получает более глубокую поддержку и контекст, а настоящий раздел, таким образом, теснее связан с предыдущим.
Протагор постепенно, со все большей неохотой идет на необходимые уступки, и его полное непонимание природы философского исследования в конце концов проявляется в том, что он объявляет высокомерием Сократа, когда тот постоянно требует от него ответов, с. 360D.E. Поэтому ему кажется необходимым втянуть в дискуссию двух других софистов и дополнить их уступками свои собственные, тем самым избавив Сократа от видимости догматизма и приведя к мирному заключению.[89 - H. M?ller a. a. O. I. S. 506. Anm. 45.] Последний, очевидно, снова настроен скептически. Сократ, как говорят, противоречит себе так же, как и Протагор: первый – тем, что объявляет добродетель обучаемой, но отрицает ее отнесение к знанию, второй – тем, что не считает добродетель обучаемой, но считает ее знанием. Таким образом, однако, противоречие Протагора с выводом еще раз подчеркивается в более мягкой форме,[90 - Hermann a. a. O. I. S. 401 f.] а внимание читателя призывается отделить кажущееся противоречие Сократа от средств самого диалога.
VIII. Предыдущие взгляды на цель беседы
Общее объяснение теперь должно следовать именно под этим углом. Если на этой основе можно распознать реальную общую цель, если все, что относится к форме и методу, можно привести в органическую гармонию с ней, если для многих прерванных переходов можно найти гармонирующую с ней причину, p.332 A.334 A. ff.340D.E. 350 C. ff. то нет необходимости накладывать на работу ни чисто негативный отпечаток, как у Сохера,[91 - a.a. O. S. 230 f. 235. Также согласно Thiersch: Ueber die dramatische Natur der platonischen Dialoge (Abhh. der M?nchner Ак ad. 1837). S. 22, полемическая часть является главной, а позитивную второстепенную цель он определяет очень расплывчато: «представить философию вместо софистики».]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: