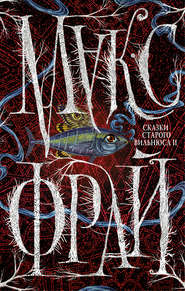
Полная версия:
Сказки старого Вильнюса II
«Конечно, навести, он будет рад. А радость, говорят, лечит. Хорошо бы! От лекарств, знаешь, толку немного…» – Лена Львовна говорила и говорила, но все это уже не имело значения, особенно после осторожной, круглой, гладкой, ядовитой, как пирожок со стеклянной начинкой, фразы: «не самый хороший прогноз».
Все мы тут взрослые люди и прекрасно знаем, что это означает: «не самый хороший». Хотя, конечно, предпочли бы не знать.
Жизнь, которая до сих пор казалась просто очень страшной, вдруг стала совершенно бессмысленной. Какой, ко всем чертям, смысл, если Йонас Львович в больнице? Такие как он не должны лежать в больницах с дурацкими «не очень хорошими» прогнозами. И стареть такие не должны и, тем более, умирать. Потому что это же форменный конец света, не зря, выходит, его обещают в двенадцатом году. Не будет мир стоять без Йонаса Львовича, и земля наверняка перестанет крутиться, я бы на ее месте точно перестала, потому что – а толку?
В брюхе шестьдесят девятой рыбы компас, чтобы всегда плыть строго на север, имя ей будет – Адмирал Чичагов[9]. Или, к примеру, Жаннетта[10] – если девочка. А семидесятую рыбу просто раскрасим как радугу, и довольно с нее.
Семьдесят первая рыба смотрит на рыбу-радугу, подетски распахнув рот. Она, похоже, счастлива. И скоро найдет клад[11].
Думала: ни за что не пойду в больницу. Не могу, не хочу. Вот увижу его там – больного, дряхлого, в палате, на койке, в капельницах каких-нибудь жутких, и тогда – вообще все! Что именно «вообще все» – не могла, конечно, сформулировать, даже для себя. Но была натурально в панике.
Думала: учителя не должны умирать. Когда умирают родители, это очень больно, но как-то… понятно. И предсказуемо. Мы с детства знаем, что родители когда-нибудь умрут. И худо-бедно уживаемся с этим знанием, а когда страшное наконец случается, выясняется, что мы к этому вполне готовы – насколько вообще возможно быть готовым к смерти, которая после ухода старших становится ближе. Настолько ближе, что иногда удается пихнуть ее локтем в бок. Оттолкнуть.
Но поди подготовься к смерти человека, который только притворялся, будто учит тебя рисунку. А на самом деле учил бессмертию. На его уроках нам всем, каждому в свой срок, вдруг становилось понятно: пока рисуешь, ты бессмертен. Бессмертен, господи боже, быть бессмертным – это, оказывается, вот так.
И даже если потом это ощущение пропадет навсегда, можно сказать себе: это только со мной случилась беда. Это я – дура, все прохлопала, профукала, упустила. Но это вовсе не значит, будто со всем миром произошла катастрофа, и теперь бессмертия нет вовсе – ни в каком виде, ни для кого. Оно есть. И этого достаточно – не для счастья, конечно. Но для того, чтобы жить дальше, достаточно. Вполне.
Думала: что я буду делать теперь, когда увижу учителя слабым, больным, бормочущим невнятное? Когда увижу его – давай называть вещи своими именами – умирающим. И как стану жить потом, когда он умрет? Смертной тварью, хлопочущей лишь о прокорме, среди других смертных тварей, озабоченных тем же? В мире, лишенном смысла? Без веры, которой никогда не было, без надежды, которая была всегда? И что я скажу детям, которых сдуру привела в этот глупый, тошный, нелепо устроенный мир?
Разбирайтесь с этим сами, мальчики, я – пас? А что еще скажешь.
Семьдесят шестая рыба – зеркало. В ее выпуклом боку отражается лицо ошалевшей от собственной удали художницы. Ай, хороша ты сейчас, мать. Ей-богу, хороша.
Но не навестить Йонаса Львовича в больнице было еще более невозможно, чем навестить. Пошла, конечно. Куда деваться.
Все было примерно так, как представляла, заранее содрогаясь: душная палата, тяжкий запах, больничная койка с подъемником, паутина капельниц, почти прозрачные старческие руки учителя с желтыми ногтями и лазурными клубками вен.
Так, да не так.
Сам Йонас Львович не был похож на обычного умирающего старика. Наоборот. Теперь, когда тело его пришло в негодность, неукротимый дух, прежде проявлявшийся лишь во взглядах и жестах, окончательно вырвался наружу и бесцеремонно заполнил все пространство. И правильно, чего стесняться.
Приподнялся на локте, улыбнулся, сказал: «Тааак. Вернулась домой. Молодец».
И сразу стало ясно, что можно ничего не говорить. В смысле, не рассказывать, как глупо и бессмысленно жила все эти годы, как ежедневно отщипывала от себя по кусочку, в надежде, что не убудет, как разменивала драгоценный дар на мелкие монеты, покупала жизнь для себя и детей, как однажды, почти десять лет назад, обнаружила, что больше ничего не осталось, и с тех пор не прикасалась не то что к кистям – к карандашу. Даже для заработка. В гробу мы видали такой заработок. Освоенный между прочими делами компьютер и хорошо подвешенный язык (целых четыре отлично подвешенных языка) кого угодно прокормят. И, слава богу, больше никаких картинок, никогда, ни за какие коврижки. Потому что – невыносимо. Жалкое подобие упущенного счастья, тошнотворная жизнь после смерти, беспомощное вранье.
Поди расскажи такое учителю, который считал тебя лучшей из своих учеников, чуть ли не главным оправданием собственной педагогической деятельности. Вслух, конечно, ничего подобного не говорил. Но думал порой так громко, что не захочешь, а все равно поймешь. Не отвертишься от ответственности.
И вдруг оказалось, можно ничего не рассказывать. Не объяснять, почему так вышло. Йонас Львович сам все прекрасно знает. И считает, что это не имеет никакого значения.
И ему, что удивительно, видней.
…Отмахнулся от расспросов о врачах – что говорят, когда выпишут? – и далее по традиционному списку. «Ай, детка, что нам до их разговоров?» Не давая перевести дух, выпалил: «Есть одно дело, из-за этой дурацкой больницы не успел, и теперь ты мне поможешь. Только ты, никто кроме тебя, ты – лучшая. Нет, не «была», есть, глаголов прошедшего времени я не признаю. Как же ты вовремя вернулась, молодец».
Восемьдесят четвертая рыба изрыгает огонь. Главное – не прикасаться к стене в том месте, где пляшут языки пламени, можно обжечься, даже рядом стоять жарко, правда-правда. Почему сразу – сошла с ума? Может, и сошла, но стена все равно горячая, одно другому не мешает. Хорошо, что дом на углу Ягайлос и Гедимино каменный, прочный, такой от нескольких искр не загорится, ни одна витрина магазина «Маркс и Спенсер» не лопнет от нашего с рыбой огня, любители шотландских бисквитов и овсяного печенья могут спать спокойно, восемьдесят пятая рыба почтительно снимает каску пожарника и передает им привет, а мне пора дальше. Скоро начнет светать.
Сказал: «Нарисуй сто рыб. Для меня. То есть вместо меня. Мне – нарисуй».
Совершенно огорошил.
Рассказывал вдохновенно и потому путано: «Ровно сто рыб, девочка, не больше и не меньше. Надо их нарисовать, чем скорее, тем лучше. В городе, на стенах домов и заборах, да где угодно, но разом, за один день, а лучше – за одну ночь, чтобы никто не помешал. Ты же знаешь, что разрисовывать стены запрещено? И это в общем правильно. Вонючей краской из баллонов – точно не надо. Но мелом-то, уверен, можно, какой от него вред.
Как – зачем? Я уже говорил тебе, совсем недавно, четверти века с тех пор не прошло: для художника существует только один ответ на вопрос «зачем?» – «чтобы было». И если он тебя не устраивает, прощайся с жизнью. С настоящей жизнью, я имею в виду. Довольствуйся малым».
Отчитал за непонятливость и тут же, как ни в чем не бывало, принялся объяснять по-человечески. Вредный. Всегда такой был.
«Искусство началось, когда закончилась магия. Я это наверняка сто раз уже говорил – тебе и всем остальным. Idée fixe всей моей жизни. Прежде рисовали только шаманы, и каждый рисунок был действием, исполненным силы и совершенно конкретного смысла. Нарисованный олень, пронзенный нарисованной стрелой, сулил скорую гибель живому зверю и обильную пищу всем заинтересованным лицам. Нарисованный дух-помощник внимательно выслушивал просьбы и начинал чесать репу, прикидывая, как их исполнить. Нарисованный путь в Нижний Мир после нескольких ударов бубна становился широкой тропой, протоптанной ногами сотен предшественников. Нам давным-давно пора возвращаться обратно, девочка. Домой. Я имею в виду, к истокам. Нас там ждут. Рисунок должен снова стать магическим действием, и если это случится не при моей жизни, буду сам виноват старый дурак, слишком долго тянул, думал, готовился. А чего тут думать? Какая разница, с чего начинать? Вот сейчас, как только ты вошла, я понял: да хоть с рыб. Нарисуем сто рыб мелом на улицах города. То есть ты нарисуешь. Для меня. Решено?»
Спросила: «Но какой прок будет от рыб? Сами говорите – пронзенный стрелой олень, духи-помощники. Ясно, для чего они были нужны. У каждого своя задача. А рыбы? Мы с вами не рыбаки, уловом не кормимся. Если я нарисую сто рыб, что случится с нами? Что они сделают для нас?»
«Вот и узнаем заодно. Лично я понятия не имею. Но хоть что-нибудь непременно случится, верь мне. Например, пойдет дождь».
Невольно улыбнулась: «Дождь-то пойдет в любом случае. Здесь у нас летом льет через день. А то и чаще».
«Не говори ерунду. Как будто сама не понимаешь. Дождь, который пойдет из-за наших нарисованных рыб – совсем не то, что обычный дождь, случайный каприз дурацкой погоды. И вообще, главное – начать. Сперва нарисуй сотню рыб, а там поглядим».
О господи.
Очень хотела сказать: «Давайте лучше придумаем, что нужно нарисовать, чтобы вы выздоровели. Уж я тогда расстараюсь. Весь город размалюю! Даже билет сдам, если понадобится». Но постеснялась. Показалось, это прозвучит, как бестактная шутка. Поэтому просто спросила: «Можно, я завтра тоже приду? Что вам принести? Я все что угодно…» – и осеклась, ощущая себя самой глупой и беспомощной курицей в мире.
«Носить ничего не надо. И бегать туда-сюда каждый день ни к чему. Приходи, когда сделаешь домашнюю работу», – строго сказал Йонас Львович. И дружески подмигнул, не оставив, таким образом, ни единого пути к отступлению.
Кивнула: «Я поняла. И приду завтра».
Чего тянуть.
…Восемьдесят восьмая рыба разрезана ножницами на множество мелких лоскутов, они еще держатся вместе, но скоро, буквально вот-вот ветер разнесет их в разные стороны. Восемьдесят девятая рыба – шахматная доска с расставленными фигурами, классический этюд, белые начинают и выигрывают. Девяностая рыба темна, как ночь, но брюхо ее сияет серым, синим и – не розовым даже, предчувствием розового. Рыба-утренняя звезда, она снится всем людям незадолго до рассвета, но почему-то именно этот сон никто никогда не помнит – кроме тех немногих счастливцев, кому она пригрезилась наяву.
Будем считать, что так.
Вообще ни секунды не сомневалась – рисовать рыб или нет. Даже вопрос так не стоял. Глупо, конечно, кто бы спорил. Но если Йонасу Львовичу нужно, чтобы я делала глупости, буду делать, не вопрос. И штука даже не в том, что он болен. А в том, что он – Йонас Львович. Никогда в жизни не приходила к нему с несделанным домашним заданием. И ни единого занятия не прогуляла, даже простужаться перестала, и хронический бронхит прошел незаметно, как-то сам собой – лишь бы не пропускать.
Восковые мелки купила в художественной лавке. Давно в такие не заходила – зачем, только душу травить. А теперь битый час проторчала перед стеллажами с товарами. Какие материалы. Какие! Нам в свое время и не снилось, что такое вообще бывает. И как же жаль, что мне больше не надо…
Сказала себе: «Цыть. Почему это «не надо»? Очень даже надо. В данный момент – мелки. Так что не хлопай ушами, оплати покупку, они же закроются уже через десять минут, шляпа».
Шла домой, рассовав коробки с мелками по карманам. Думала: все это так глупо, что, пожалуй, даже хорошо. Если подумать, искусство само по себе – глупость. Нерациональное, необязательное, избыточное действие, без которого можно легко обойтись. То есть без него можно выжить. Но нельзя жить.
Одернула себя: ишь, разошлась. Искусство ей подавай. Поздно, мать, твой поезд давным-давно ушел. Не примазывайся.
Йонас Львович на это сказал бы: ушел, и черт с ним. Поезда, деточка, ходят по расписанию. Каждый день, или хотя бы раз в неделю. Садись да поезжай, если приспичило. Все лучше, чем локти кусать. И был бы совершенно прав.
У девяносто четвертой рыбы в каждом глазу по океану, а глаз – не меньше дюжины, потому что океанов должно быть много, и каждый – необъятный простор. Девяносто пятая рыба улыбается, как Джоконда – смешная вышла цитата.
И художница тоже улыбается, как Джоконда. И практически спит на ходу.
Шла по набережной. Слева была река, справа – дома. Позади – сгущеная синяя ночь, впереди – молочно-серое обещание утра. Прочитала название: Жигиманту. Вспомнила – а в мое время была Пожелос. Вроде бы, вообще вся набережная так называлась. Или нет? Ай, да какая разница.
Очень устала.
…Сотая рыба была самая обыкновенная. Красноперая плотва с серебристой чешуей. Но хороша, ничего не скажешь. Сунула огрызок мелка обратно в коробку, положила в карман – все! Теперь – спать.
Рыба-красноперка вздрогнула жабрами, моргнула круглым глазом, приоткрыла рот.
Подумала: значит, уже сплю. Подумала: плохо быть рыбой, вытащенной на сушу. Подумала: ей бы, что ли, в воду. Дорисовать?
Рисовать не пришлось. На протянутую ладонь упала первая капля дождя. Потом вторая, третья, четвертая. Сотая капля оказалась самой тяжелой, а еще миг спустя считать капли стало невозможно, дождь полил как из ведра.
Подумала: рыбы будут довольны. Теперь они могут плыть, куда захотят.
Мокрая до нитки стояла на речном берегу, смотрела, как там, глубоко-глубоко, плывут, обгоняя друг друга рыбы – красноперая плотва, рыба-шахматная доска, рыба-радуга, рыба-сердце, рыба с цветущими глазами, рыба-сухой лист. И все остальные рыбы – плывут.
Улица Зарасу (Zarasų g.)
Фанты
Нёхиси празднует день рождения.
Если он и родился хоть когда-нибудь, дата этого выдающегося события никому не известна. Но даже если ты, предположим, был вообще всегда, это вовсе не повод оставаться без праздника и подарков, – так считает Нёхиси.
И он совершенно прав.
Обычно Нёхиси празднует день рождения ежемесячно, в пятнадцатый день луны. В другие дни на него тоже порой находит, но полнолуния он не пропускает почти никогда. Полная луна, считает Нёхиси, сама по себе прекрасный подарок. Поэтому даже если все друзья – выразительный взгляд в мою сторону – окажутся свинтусами и придут с пустыми руками, как минимум один подарок все равно обеспечен. И праздник, считай, уже удался.
Он совершенно напрасно беспокоится на мой счет.
Являться на день рождения без подарка не в моих обычаях. Дарить подарки гораздо интересней, чем не дарить – вот хотя бы поэтому.
Чаще всего я просто приношу выпивку. Благо в этом вопросе Нёхиси легко угодить. Он мгновенно хмелеет от великого множества вещей. От весенних костров и дурацких ярмарок на центральном городском проспекте, от красных кленовых листьев и апрельских снегопадов, от зимних гроз и криков улетающих на юг птичьих стай, от барабанного боя и аромата горьких ноябрьских хризантем, от дыма печных труб и гулкого эха подворотен – список любимых напитков Нёхиси почти бесконечен. К тому же он всегда рад попробовать что-нибудь новенькое.
Я люблю, когда Нёхиси пьян.
Когда Нёхиси пьян, у него легкий характер. Когда Нёхиси пьян, он на все согласен. Когда Нёхиси пьян, в небе все двери нараспашку. Когда Нёхиси пьян, в городе становится весело.
И, самое главное, когда Нёхиси пьян, мы играем в фанты. Одного этого достаточно, чтобы праздновать его дни рождения как можно чаще. Потому что когда Нёхиси трезв, у него вечно находятся дела поважнее.
* * *– Это только на первый взгляд свалка, – говорит Тони. – А на самом деле…
Мне очень нравится эта пауза, потому что я хорошо знаю Тони. Обычно после подобной паузы следует одна из его прекрасных завиральных историй, которые я люблю больше всего на свете. В детстве меня грызла лютая зависть к сказочному мальчику Яльмару, которого каждую ночь навещает Оле-Лукойе. Больше я ему не завидую: у меня есть Тони. Причем наяву, а не во сне. А у Тони – даже не один пестрый зонт, а целая коллекция, всех мыслимых цветов, на все случаи жизни.
Сегодня, кстати, он взял с собой зеленый. Хотя на небе ни облачка, и все известные нам метеорологические службы с утра дружным хором пророчили идеальные выходные – сухие и солнечные.
– На самом деле на свалку это не похоже даже на первый взгляд, – решительно заключает Тони. – Ну вот посмотри. Что скажешь?
– Для свалки барахла тут явно маловато, – соглашаюсь я. – И валяется оно как-то слишком аккуратно. Как будто кто-то нарочно раскладывал, старался.
– И, между прочим, далеко не все можно назвать «барахлом». Смотри, какая ваза отличная – та, из лилового стекла. И кукла рядом с ней – это же авторская работа, очень крутая, совершенно не в моем вкусе, но оценить-то я могу. А эту керамическую миску я, дай мне волю, вообще утащил бы.
– Ну так и утащи. Все равно ее выбросили.
– Неееет, – тянет Тони, и вид у него делается загадочный и лукавый. – Отсюда ничего забирать нельзя.
– Почему нельзя?
– Потому что это такое специальное особенное место, куда можно только приносить. Неужели непонятно?
– Конечно, непонятно. Ты же еще ничего не объяснил.
– Твоя правда, не объяснил, – миролюбиво соглашается он и усаживается прямо в густую траву – больше все равно некуда.
Теоретически мы находимся в самом центре Вильнюса, на улице под названием Зарасу. На практике же, сидим на окруженной деревьями поляне между маленькой речкой Вильняле и старым Бернардинским кладбищем, что на холме. За густыми зарослями не видно ни воды, ни жилых домов, и трудно поверить, что, к примеру, до ближайшей французской пекарни, где кофе варят кое-как, зато в круассаны явно добавляют солнечный ветер, отсюда пять минут быстрым шагом. Но это совершенно нормально для Вильнюса, города, который, по моим ощущениям, не построен на месте вырубленного леса, как прочие человеческие поселения, а пророс сквозь лес, почти его не потревожив.
* * *Нынче сентябрьское полнолуние, очередной день рождения Нёхиси. И я тут как тут – такие праздники пропускать нет дураков. В одном кармане у меня крепкий осенний туман, настоенный на шорохе палой листвы, в другом – звонкое многоголосье цикад, последнее выступление в этом сезоне, настоящее сокровище, но для Нёхиси мне ничего не жалко, гулять так гулять.
Когда Нёхиси пьян, там, где ступает его нога, расцветают легкомысленные маргаритки, и если ему взбредет в голову гулять по тротуарам – тем хуже для асфальта, придется пойти трещинами, чтобы дать прорасти цветам. Но сегодня Нёхиси желает бродить по траве, все еще по-летнему густой и зеленой. Поэтому мы слоняемся по берегам Вильняле, громко, размахивая руками и перебивая друг друга, говорим обо всем, что взбредет в хмельные головы, хохочем на пустом месте и обнимаемся от полноты чувств. Наше заповедное поле для игры в фанты совсем рядом, но мы не спешим, напротив, тянем время, предвкушаем грядущее удовольствие. И весь город, нетерпеливо приподнявшись на цыпочки, предвкушает его вместе с нами.
Мы с Нёхиси всегда счастливы. Но в такие вечера, как сегодня – особенно пронзительно.
Как будто мы почти есть.
* * *– На самом деле, – говорит Тони, – я толком и объяснить-то ничего не могу. В смысле сам мало что понимаю. С этим местом странная история: о нем знают почти все зареченские[12] старожилы, нынешние и бывшие, а также их ближайшая родня. Но никому не рассказывают, да и друг с другом не обсуждают почти никогда.
– Но тебе-то рассказали.
– Ну да. Мне повезло. Но ты учти, я же целых шесть лет снимал здесь мастерскую. Стал завсегдатаем всех окрестных кафе, кроме разве что «Торреса», очень уж там дорого. Как минимум раз в неделю обхожу все местные галереи, включая самые безнадежные – просто из чувства патриотизма. Хлеб покупаю только в здешней пекарне, сыр и оливки – в лавке по соседству, даже за горчичниками и аспирином, если что, никуда, кроме Ужупской аптеки не побегу, хоть и закрывается она безбожно рано. Подружился со всеми соседями, включая бабку Ванду, которая люто ненавидит все живое, кроме кошек. И когда заметила, что я их тайком подкармливаю, включила меня в список наименее отвратительных двуногих, даже клюкой больше не замахивается, если мимо прохожу. Впрочем, бог с ней. Остальные-то соседи вполне искренне меня полюбили. И все равно, хоть бы кто словом обмолвился. В итоге, забрел я сюда совершенно случайно. К счастью, не один, а в компании нашей Люси. Которая, заметь, выросла в Ужуписе. У ее деда с бабкой был дом где-то на Кривю; Люси до сих пор локти кусает, что пришлось продать. В общем, с компанией мне в тот раз очень повезло. Я-то сперва подумал: «Вот это богатая помоечка!» Добрую половину сокровищ отсюда упереть собирался. Неловко получилось бы. Потому что, как Люси мне объяснила, сюда люди не хлам выбрасывают, а приносят подарки.
– Подарки – кому?
– Да вот и я думаю – а кому, собственно? Люси тогда выкрутилась просто, сказала: «genius loci»[13], – и, вроде, сразу все стало понятно. Но Люси у нас дипломированный философ, ей можно латынью щеголять. А в моих устах «genius loci» как-то не очень органично звучит.
– Ну так и говори: «духу местности», – улыбаюсь я. – Этим ты меня не шокируешь.
– Просто не уверен, что это такое уж точное определение, – хмурится Тони. – Именно духу? Или локальному божеству? Или даже не локальному? Одному или их тут целая теплая компания? Или подарки достаются призракам, убегающим с Бернардинского кладбища погулять на воле? Но, в общем, ладно. Главное, что достаются. Кому-то этакому. Непростому. Непостижимому и неопределенному.
– И записки с просьбами небось привязывают?
– А вот знаешь, вроде бы нет. Я тоже сразу подумал о просьбах, но Люси сказала, ничего подобного в жизни не слышала. Мы с ней тогда специально посмотрели – никаких записок.
– Тогда какой смысл?
– Ну здрасьте. Когда ты ко мне вваливаешься с подарками, или, скажем, на день рождения идешь, или просто так, под настроение что-то прекрасное кому-нибудь тащишь – какой в этом особый смысл?
– Порадовать, конечно. И заодно подать сигнал: «Эй, я – источник твоей радости! Меня надо любить». Звучит по-идиотски, зато правда.
– Ну да. Думаю, с духами ровно то же самое. Порадовать и подать сигнал: «Я хороший, меня надо любить».
Лучше и не сформулируешь.
– А все-таки за подарки полагаются какие-то бонусы?
– Да черт его знает. Как я понял из Люсиных объяснений, ничего конкретного. Но в целом, безусловно, предполагается, что у дарителя будет более счастливая жизнь, чем в среднем по палате. Хотя все равно без гарантий. Но, конечно, шепотом рассказывают разные истории об озолотившихся в одночасье владельцах галерей, чудесных исцелениях, сложившихся семьях и внезапно обретенных смыслах бытия. Какая-либо связь с подношениями во всех случаях неочевидна и совершенно недоказуема. Однако общее мнение таково, что подарки лучше время от времени приносить, а требовать чего-то конкретного взамен, как минимум, рискованно. И уж брать отсюда ничего нельзя, ни в коем случае. Хотя все равно, думаю, растаскивают понемножку – те, кто случайно забрел. Дети, например. Кроме них по этим зарослям вряд ли кто-то лазает… Во всяком случае, экспозиция постоянно обновляется.
– С другой стороны, может быть, подарки забирает именно genius loci? Непостижимый-то он непостижимый. И, не сомневаюсь, неопределенный. Однако хозяйственный. Тащит добришко в погреб, и правильно делает – если уж это ему принесли.
– Во всяком случае, местное население совершенно в этом уверено. Ну и я с ними за компанию надеюсь, что так. Вот видишь, зонтик принес в подарок. Просто из вежливости. Пусть будет. Все-таки столько лет в Заречье живу, а взносов еще не делал.
– Слушай, а если я тоже что-нибудь положу? Или только зареченским жителям можно?
– Хулы не будет, – смеется Тони. – Подарки – такое дело, знай давай, да побольше. А с адресом твоим другие инстанции пусть разбираются. Точно не Небесная Канцелярия. Но зачем тебе?
– Понятия не имею. Низачем. Просто… чтобы быть в игре.
– Да, это серьезная причина. Куда серьезней, чем моя вежливость. А что ты тут оставишь? Не сумку же?
– Точно не сумку. Куда я без нее. Зато, например, с бумажником вполне могу расстаться. Он у меня почти новый, весной из Испании привезли. Смотри какой красивый.
– Красивый, – кивает Тони. – Самый простой способ сделать красивым все что угодно – не очень похабно изобразить на этом предмете старинную карту. Не жалко отдавать?
– Немножко жалко. Но, считается, это и есть самый лучший подарок – с которым жалко расставаться. А карточки и деньги переложу в карман. Да и сколько там, честно говоря, этих денег. Смех один.



