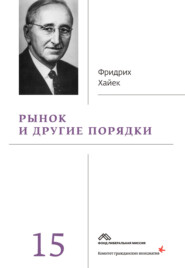
Полная версия:
Рынок и другие порядки
С точки зрения Хайека, «высокий уровень безработицы» возникает тогда, когда искажается структура цен и заработной платы, и обычно это происходит из-за фиксирования цен в той или иной форме либо монополиями, либо государством[110]. Когда это происходит, для восстановления равновесия необходимы изменения относительных цен. Только вот конкретная структура заработной платы и цен, способная восстановить равновесие, никому не известна и не может быть известна. Есть и другой способ выразить ту же мысль: хотя и можно создать математические модели, описывающие структуру экономики, никогда не будет возможно подставить необходимые числовые данные вместо переменных. Такова цена, которую приходится платить, когда имеешь дело с явлениями высокого уровня сложности; эти слова Хайек повторяет не раз. Как и в более ранних работах, он называет «явлениями высокого уровня сложности» такие, в которых количество значимых переменных велико и для которых статистические методы не годятся, поскольку это явления «организованной сложности»[111].
Иными словами, в своей Нобелевской речи Хайек представляет сокращенную версию выводов для экономической политики из австрийской теории делового цикла в комбинации с его собственными размышлениями об опасностях сциентизма при рассмотрении явлений высокого уровня сложности. Его теория, разумеется, мало утешает тех, кто желает вмешиваться в экономику с целью укрощения делового цикла[112]. Хайек сознает, что его слова звучат не слишком ободряюще: «…я хотел продемонстрировать на актуальном примере следующий несомненный в моей области и, по-моему, вообще в науках о человеке вывод: то, что на поверхности выглядит как наиболее научный метод, часто оказывается самым ненаучным, и, более того, в этих областях имеются определенные пределы возможных ожиданий от науки. <…> И в самом деле, в отличие от вызываемого открытиями в физических науках радостного возбуждения, знания, которые мы получаем от изучения общества, чаще действуют угнетающе на наши устремления»[113].
Свою Нобелевскую речь Хайек завершает фразой, которая хорошо отображает разнообразие тем, затронутых им как в этой речи, так и в более ранних работах: «Признание непреодолимых пределов его знания должно преподать исследователю общества урок смирения, который должен предохранить его от соучастия в пагубном стремлении людей к контролю над обществом – стремлении, которое не только превращает его в тирана своих ближних, но и способно сделать его могильщиком цивилизации, которая не создавалась по замыслу какого-либо разума, а выросла из свободных усилий миллионов людей»[114]. Многим читателям эти слова покажутся излишне драматическими – но ведь они были написаны в драматические времена. Стагфляция подчеркнула трудности успешного применения наиболее «научной» макроэкономической доктрины того времени, кейнсианской политики управления спросом. Одни сочли это признаком неудачи капитализма, а другие пришли к выводу, что для объяснения функционирования экономики необходима более совершенная теория. У Хайека была такая теория, но ее выводы отличались исключительной скромностью. Об интеллектуальной честности Хайека, вероятно, лучше всего свидетельствует следующее обстоятельство: он понимал, что с его позицией мало кто согласится – приверженность сциентизму не исчезнет так легко.
* * *Собранные в данном томе работы представляют собой убедительную документальную картину медленной, но безостановочной эволюции взглядов Хайека на изучение сложных стихийных порядков. С этой проблемой он впервые столкнулся, когда размышлял о том, как рыночная система может координировать человеческую деятельность в мире, где знание рассеяно и субъективно. Но затем он понял, что такие порядки существуют повсеместно: их можно найти в природе, и их существование непременно нужно учитывать при объяснении возникновения многих наших самых важных социальных, культурных и экономических институтов. Сама вездесущность таких порядков влечет за собой далеко идущие последствия. Каковы свойства стихийных порядков? Как лучше всего их изучать? С какими ограничениями мы встречаемся, когда пробуем предсказать их поведение или контролировать их? А если мы ответим на эти вопросы, то каковы очередные вопросы, касающиеся организации общества? Отвечая на перечисленные вопросы, Хайек научно обосновал свои аргументы об ограниченности планирования и важности взращивания такой системы институтов, которая позволит обществам и входящим в них индивидуумам преуспевать все лучше.
«Лучше, чтобы человек тиранил свой банковский счет, чем своих сограждан». См.: J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money (London: Macmillan, 1936), p. 374 <ср.: Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 334>.
Настоящий том имеет название «Рынок и другие порядки». Оно призвано отразить движение мысли Хайека: он начал с рыночного порядка, а затем осознал существование порядков во многих других областях. Оно также перекликается с названием сборника Хайека 1948 г. «Индивидуализм и экономический порядок», где впервые были собраны некоторые его ранние работы. Нет сомнения, что главы настоящего тома являются одними из самых важных работ Хайека и, если мне будет позволено закончить личным признанием, принадлежат к числу моих фаворитов.
Брюс Колдуэлл
Дарэм, Северная Каролина,
ноябрь 2012 г.
Рынок и другие порядки
Пролог: виды рационализма[115]
IПроводя критический анализ ряда господствующих сегодня верований, мне порой приходилось делать трудный выбор. Часто случается, что вполне специфические требования обозначаются замечательно хорошим словом, которое в более общем значении обозначает весьма желательную и одобряемую в целом деятельность. Мне приходится противостоять специфическим требованиям, которые зачастую есть результаты веры в то, что если некоторая установка является в общем случае благотворной, то она должна быть таковой во всех применениях. Это создает определенные трудности для критики современных убеждений, и впервые я с ними столкнулся в связи со словом «планирование»[116]. То обстоятельство, что, собираясь что-либо сделать, нужно подумать, тот факт, что разумное упорядочивание собственной жизни требует наличия ясных представления о наших целях, кажется настолько очевидным, что трудно поверить, чтобы требование планирования могло оказаться ложным. В частности, вся хозяйственная деятельность представляет собой планирование решений об использовании ресурсов во всех возможных конкурирующих применениях. Поэтому для экономиста совершенно нелепо противостоять «планированию» в самом общем смысле этого слова.
Но в 1920—1930-х годах это хорошее слово начали использовать в более узком и специфическом смысле. Оно стало обозначать широко распространенное требование, что не каждый из нас должен разумно планировать собственную экономическую деятельность, а хозяйственная деятельность каждого должна быть направляема из центра в соответствии с единым планом, установленным центральной властью. Таким образом, «планирование» стало обозначать централизованное коллективистское планирование, и вся дискуссия, планировать или не планировать, стала относиться к этому единственному вопросу. То обстоятельство, что хорошее слово «планирование» было присвоено сторонниками централизованного планирования для обозначения собственной схемы, поставило их оппонентов перед нелегким выбором. Следовало ли высвободить это слово для законного использования и настаивать, что свободная экономика имеет основой отдельные планы множества индивидов и дает последним больше возможностей для планирования собственной жизни, чем централизованно планируемая система? Или следовало принять новое узкое значение слова и просто направить критику против «планирования»?
Правильно или ошибочно, но я решил, к некоторому неудовольствию моих друзей, что история зашла слишком далеко и поздно уже высвобождать слово для законного использования. И раз мои оппоненты выступали просто за планирование, имея в виду централизованное планирование всей экономической деятельности, я направил критику против «планирования» в целом, предоставив противникам использовать хорошее слово и открыв себя для обвинений, что я противник использования разума для упорядочивания наших дел. И я все еще считаю, что при тогдашнем положении дел такая лобовая атака на планирование была необходима для развенчания нового идола.
Позднее у меня возникли схожие трудности с благословенным словечком «социальный». Как и «планирование», оно стало модным хорошим словом времени и в своем первоначальном значении – принадлежать к обществу – могло бы быть очень полезным словом. Но такие современные его употребления, как «социальная справедливость» (легко понять, что всякая справедливость есть социальное явление) или когда наши социальные обязанности противопоставляются просто моральному долгу, сделали его одним из самых вредных и запутывающих слов нашего времени. Это слово не только лишилось всякого содержания и стало пригодным для обозначения любого произвольного значения, но оно обессмыслило все термины, в устойчивом сочетании с которыми его использовали (как в немецком soziale Marktwirtschaft или sozialer Rechtsstaat[117]). В результате я почувствовал себя обязанным выступить против этого слова и показать, в частности, что концепция социальной справедливости вообще лишена смысла и представляет собой лишь смущающий мираж, который должен быть избегаем всеми ясно мыслящими людьми. Эта атака на еще один священный идол нашей эпохи выставила меня в глазах многих в роли безответственного экстремиста, находящегося в разладе с духом времени.
Еще одним примером хорошего слова, которое, если бы не его специальное значение, я был бы рад использовать для обозначения собственной позиции, является слово «позитивный» <«положительный»> или «позитивист». Из-за приданного ему особенного значения мне пришлось оставить это превосходное слово противникам и стать «антипозитивистом», хотя я в той же мере сторонник положительной науки, как и самозваные позитивисты.
IIЕсть еще один конфликт мнений, в котором я не могу обойтись без подробных объяснений. Общая социальная философия, которой я придерживаюсь, иногда обозначается как антирационализм, и я, подобно другим, использовал этот термин по крайней мере в применении к моим интеллектуальным предшественникам – Бернарду Мандевилю, Давиду Юму и Карлу Менгеру[118]. В результате возникло столь много заблуждений, что это обозначение стало мне представляться весьма опасным и ложным.
Здесь опять перед нами ситуация, когда одна группа мыслителей закрепила за собой право на единственно верное толкование хорошего слова и получила имя рационалистов. Неизбежно было, что те, кто не соглашался с их истолкованием разума, стали известны как «антирационалисты». Возникло впечатление, что последние оценивают разум не столь высоко, хотя их-то заботило более эффективное использование разума, для чего, считали они, нужно верно понять границы эффективного использования индивидуального разума в регулировании взаимоотношений между множеством разумных существ.
Существует, как мне представляется, разновидность рационализма, которая, не осознавая границ власти индивидуального разума, фактически уменьшает его возможности. Эта разновидность рационализма представляет собой относительно новое явление, хотя корни его восходят к древнегреческой философии. Его современное влияние, однако, начинается только в XVI–XVII вв. и связано, в частности, с формулировками французского философа Рене Декарта[119]. Преимущественно благодаря ему изменился смысл термина «разум». Для средневековых мыслителей разум означал преимущественно способность осознавать истину, особенно нравственную истину[120], а не способность дедуктивного вывода из явно заданных предпосылок. И они довольно ясно осознавали, что многие институты цивилизации не были изобретены разумом, а представляют собой явную противоположность всему изобретенному – то, что называлось «естественным», т. е. стихийно выросшее.
Выступая против более старой теории естественного права, которая признавала в большинстве институтов цивилизации не продукт целенаправленного конструирования, новый рационализм Фрэнсиса Бэкона, Томаса Гоббса и в особенности Рене Декарта заявил, что все полезные установления цивилизации были и должны быть продуктом целенаправленного творчества сознательного разума[121]. Этот разум отождествлялся с картезианским esprit geometrique, с интеллектуальной способностью дедуктивно выводить истину из немногих очевидных и несомненных предпосылок.
Мне представляется, что лучше всего называть этого рода наивный рационализм рационалистическим конструктивизмом. В сфере социальных отношений это понимание стало источником неизмеримого вреда, хотя оно же оказалось достаточно плодотворным в области технологий. (Чтобы не думали, что, обозначив этот подход как «конструктивизм», я дарю моим оппонентам еще одно хорошее слово, отмечу, что как раз в этом значении это слово уже использовалось величайшим либералом XIX в. У. Гладстоном[122]. Он обозначал этим словом установку, для которой прежде я не нашел лучшего имени, чем «инженерный склад ума». «Конструктивизм» мне кажется более подходящим обозначением той практической установки, которая постоянно сопутствует тому, что в области теории я называю «сциентизмом»[123].)
Господство этих идей в XVII в. отражает возврат к предшествующему, наивному образу мышления, которое предполагало, что каждое установление – язык, письменность, право или мораль – обязано возникновением некоему изобретателю. Далеко не случайно, что картезианский рационализм оказался совершенно слеп к силам исторической эволюции. И свой способ истолкования прошлого он рассматривал как программу для будущего: человек, полностью отдающий себе отчет в том, что он делает, создаст такую цивилизацию и социальный порядок, какие позволяет процесс мышления. С этой точки зрения рационализм есть доктрина, предполагающая, что все благодетельные для человечества установления есть продукт сознательных, целенаправленных изобретений, прошлых и будущих; что они подлежат одобрению и признанию только в той степени, в какой может быть показано, что их результаты окажутся лучше, чем результаты альтернативных уложений для всякой данной ситуации; что мы можем таким образом формировать наши установления, что будут реализованы наилучшие, с нашей точки зрения, из всех возможных, и что мы никогда не предпочтем автоматические или механические механизмы, если сознательный учет всех факторов сделает предпочтительным результат, недоступный стихийным процессам. Весь современный социализм, планирование и тоталитаризм имеют источником эту разновидность социального рационализма или конструктивизма.
IIIТеперь мы можем сформулировать нашу проблему: действительно ли цивилизация, как предполагают картезианцы и их наследники, является продуктом человеческого разума, либо следует рассматривать разум как продукт цивилизации, которая не была кем-либо изобретена, но возникла в процессе эволюции. Это, конечно, есть разновидность вопроса о «курице и яйце», и никто не станет отрицать их взаимосвязанности. Но для картезианского рационализма типично настаивать на первом истолковании, на представлении о том, что человеческий разум предсуществует и создает установления цивилизации. Начиная от идеи «общественного договора» до представления, что закон создается государством и что, раз уж мы создали наши институты и установления, мы же можем их произвольно изменять, – все мышление нашей эпохи пронизано этой традицией. Для этой традиции характерно и то, что в ней нет места для социальной теории: ведь проблемы социальной теории возникают из того факта, что индивидуальные усилия имеют своим результатом порядок, который, будучи непреднамеренным и непредвиденным, оказывается незаменимым для достижения того, к чему стремятся люди.
Достойно упоминания, что результаты двух с лишним столетий усилий социальных и в особенности экономических теоретиков получают неожиданную поддержку со стороны новой науки социальной антропологии, которая демонстрирует, что то, что издавна считалось изобретением разума, на деле является результатом эволюции и отбора, схожего с процессами, которые мы находим в области биологии. Я называю эту дисциплину новой наукой, хотя социальная антропология просто продолжает работу, начатую Мандевилем, Юмом и их преемниками из числа шотландских философов, которая была в основном забыта из-за того, что их последователи все больше и больше вовлекались в разработку узкой сферы экономической теории[124].
В самом общем виде основной результат, достигнутый на этом направлении, гласит, что даже способность мыслить есть не индивидуальная способность, а элемент культуры и передается не биологическими механизмами, а через пример и научение, преимущественно через научение языку. Язык, осваиваемый нами в раннем детстве, по-видимому, предопределяет стиль мышления, способ понимания и истолкования мира в куда большей степени, чем мы предполагаем. Посредством языка нам сообщаются не просто знания прежних поколений; сама структура языка предполагает определенные взгляды на природу мира, так что, осваивая язык, мы впитываем некую картину мира – рамку нашего мышления, в пределах которой в дальнейшем будет протекать наше мышление, не отдавая в этом отчета. Подобно тому как в детстве мы осваиваем язык, правил которого в явном виде мы не знаем, мы вместе с языком осваиваем правила понимания мира и правильного поведения в нем, и в дальнейшем эти не осознаваемые нами правила руководят нашим поведением. Этот феномен безотчетного научения есть важнейшая часть механизма передачи культуры, понимаемого нами пока что далеко не в полной мере.
IVСказанное выше означает, скорее всего, что наше мышление подчиняется
Другое дело, что сами ценности имеют функцию, или «назначение», которая может быть раскрыта с помощью научного анализа. Детальный анализ попыток объяснить, почему мы придерживаемся тех или иных ценностей, помогает разграничить разные виды рационализма. Самой известной теорией морали является утилитаризм. Он существует в двух формах, которые прекрасно иллюстрируют различия между законным использованием разума в деле рассмотрения ценностей и ложным «конструктивистским» рационализмом, который пренебрегает ограниченностью разума.
В своей первой и законной форме утилитаризм возникает в работах того же Давида Юма, который так настойчиво подчеркивал, что «разум сам по себе совершенно не способен» создавать правила нравственности, и одновременно настаивал, что для успеха в достижении целей человек должен подчиняться моральным и правовым нормам, которые не были кем-либо изобретены или сконструированы[126]. Он показал, что определенные абстрактные правила поведения начали превалировать потому, что группы, принявшие именно эти правила, обрели некие преимущества перед другими группами. В связи с этим он подчеркивал превосходство порядка, возникающего, когда каждый член общества подчиняется одним и тем же абстрактным правилам, даже не понимая их значимости, над состоянием, когда каждое отдельное действие осуществляется из соображений целесообразности, т. е. после сознательного учета всех конкретных последствий отдельного поступка. Юма интересует не доступная оценке полезность отдельного действия, а только полезность универсального применения определенных абстрактных правил, в том числе в таких ситуациях, когда ближайшие результаты подчинения правилам оказываются нежелательными. Он обосновывает [преимущество подчинения правилам] тем, что человеческий разум не в состоянии охватить все детали общественной жизни и именно ограниченность сознания принуждает нас удовлетворяться абстрактными правилами; и более того, никакой индивидуальный разум не в состоянии изобрести наиболее подходящие абстрактные правила, поскольку в существующих, возникших в ходе развития общества, воплощены результаты гораздо большего числа опытов и ошибок, чем доступно любому индивидуальному разуму.
Такие наследники картезианской традиции, как Гельвеций и Беккариа или их английские последователи Бентам, Остин и Дж. Мур, превратили этот общий
Отношение различных видов рационализма к абстракции часто служит источником путаницы и поэтому нуждается в отдельном рассмотрении. Пожалуй, лучшим способом объяснить различие, будет сказать, что те, кто признают ограниченность разума, хотят использовать абстракцию для расширения его возможностей, для чего считают необходимой хотя бы некоторую упорядоченность сложных человеческих дел, которые просто не поддаются детальной упорядоченности, тогда как конструктивистские рационалисты ценят абстракцию только как инструмент упорядочивания частностей. Для первых, как выразил это Токвиль, «общие идеи свидетельствуют не о силе человеческого разума, а скорее о его несовершенстве», для вторых это инструменты, обещающие нам неограниченную власть над частностями[128]. В философии науки это различие сказывается в том, что приверженцы второго взгляда верят в то, что ценность теории следует оценивать по ее способности предсказывать конкретные события, т. е. в нашу способность заполнить описанный теорией общий паттерн конкретными фактами, подтверждающими ее верность, тогда как само по себе предсказание того, что мы встретим некоторый паттерн, также является фальсифицируемым предсказанием. В области моральной философии конструктивистский рационализм склонен пренебрегать полезностью абстрактных механических правил и рассматривает как истинно рациональное только такое поведение, в котором нормой считается оценка каждой частной ситуации «по достоинству» и выбор решения из конкретных альтернатив в соответствии с известными последствиями каждой.
Достаточно очевидно, что эта разновидность рационализма с необходимостью ведет к разрушению всех нравственных ценностей, к вере в то, что человек должен руководствоваться только личными оценками преследуемых им конкретных целей и что результатом должно быть оправдание всех возможных средств достижения любых целей. Порождаемое такой ориентацией состояние ума хорошо описано в автобиографическом эссе покойного лорда Кейнса. Описывая свои и своих друзей взгляды в первые годы века, верность которым он сохранял и 30 лет спустя, он пишет: «Мы совершенно отринули обязанность подчиняться общим правилам. Мы заявили о праве оценивать каждого по его заслугам, а также о том, что нам достает мудрости, опыта и самоконтроля, чтобы преуспеть в этом. Это была очень важная часть наших убеждений, которые мы заявили напрямик и очень агрессивно, и для внешнего мира это была самая очевидная и опасная наша черта. Мы полностью отринули обычную нравственность, условности и традиционную мудрость. Мы были имморалистами в прямом смысле слова. Последствия, конечно, приходилось принимать как должное. Но мы не признавали за собой никаких моральных обязательств, никакого долга подчиняться или приспосабливаться. Мы заявили небесам, что будем сами себе судьями»[129].



