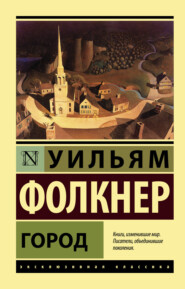
Полная версия:
Город

Уильям Фолкнер
Город
1
Чарльз Маллисон
Меня тогда еще на свете не было, но в то время мой двоюродный брат Гаун был уже настолько большой, что мог все увидеть, запомнить и рассказать мне, когда я подрос и начал соображать. Или, вернее, не только Гаун, но и дядя Гэвин, или, пожалуй, не только дядя Гэвин, но и Гаун. Ему, Гауну, было тринадцать лет. Его дед приходился братом моему деду, а к тому времени, когда дошло до нас, мы с ним и не знали, кем друг другу доводимся. Поэтому он нас всех, кроме деда, звал «двоюродными» и мы все, кроме деда, звали его «двоюродным», и все.
Они жили в Вашингтоне, где его отец служил в государственном департаменте, а потом государственный департамент вдруг послал его отца в Китай, или в Индию, или еще куда-то далеко-далеко на целых два года; и мать его тоже поехала, а Гауна они отправили к нам, чтоб он у нас жил и учился в джефферсонской школе, покуда они не вернутся. В то время «к нам» – это значило к деду, маме, папе и дяде Гэвину. Я расскажу, что знал об этом Гаун до того, как я родился и подрос настолько, чтобы тоже об этом знать. А когда я говорю «мы» и «мы думали», то имею ввиду Джефферсон и то, что думали в Джефферсоне.
Сперва мы думали, что бак на водокачке – это только памятник Флему Сноупсу. Мы тогда еще ничего не понимали. И только потом мы поняли, что эта штука, которая виднеется над городом Джефферсоном, штат Миссисипи, вовсе не памятник, а след ноги.
Однажды летом Флем въехал в город по юго-восточной дороге в фургоне, запряженном парой мулов, везя с собой жену, ребенка и кое-что из домашней утвари. А на другой день он уже стоял за стойкой в маленьком ресторанчике, принадлежавшем В. К. Рэтлифу. Или, вернее, Рэтлиф владел этим ресторанчиком на паях еще с одним человеком, потому что он, Рэтлиф, агент по продаже швейных машин, должен был почти все время разъезжать по округе в своем фургончике (он тогда еще не купил «форд» первого выпуска) с образцом швейной машины. Или, вернее, мы думали, что Рэтлиф еще владеет ресторанчиком на паях, пока не увидели за стойкой незнакомца в засаленном переднике – он был приземистый, неразговорчивый, с крошечным аккуратным галстуком-бабочкой, с мутными глазами и неожиданно маленьким носом, крючковатым, словно клюв у мелкого ястреба; а еще через неделю Сноупс поставил за ресторанчиком парусиновую палатку и стал жить там с женой и ребенком. И тогда-то Рэтлиф сказал дяде Гэвину:
– Дайте только срок. Через полгода он и Гровера Кливленда (Гровер Кливленд Уинбуш был его компаньон) выпрет из этого ресторана.
Это было самое первое лето, «первое лето Сноупсов», как назвал его дядя Гэвин. Сам он был тогда в Гарварде, уехал туда, чтоб выучиться на магистра искусств. А потом он собирался поступить на юридический факультет университета здесь, в штате Миссисипи, чтобы, когда кончит его, стать помощником своего отца. Но уже в каждые каникулы он помогал отцу, который был прокурором города; миссис Сноупс он тогда еще и в глаза не видел, и не только не знал, что поедет в Германию учиться в Гейдельбергском университете, но не знал даже, что ему всерьез этого захочется: он говорил только, что не прочь поехать туда когда-нибудь, ему это казалось удачной мыслью, которую приятно держать про себя, а при случае и ввернуть в разговор.
Они с Рэтлифом часто разговаривали. Потому что Рэтлиф, хоть и школы не кончил толком и все время разъезжал по нашей округе, продавал швейные машины (или продавал, или выменивал, или покупал еще что-нибудь), они с дядей Гэвином оба интересовались людьми, или так, по крайней мере, говорил дядя Гэвин. Потому что я-то всегда думал, что они главным образом интересовались тем, как бы удовлетворить свое любопытство. То есть так было до сих пор. Потому что теперь это было посерьезнее простого любопытства. Теперь им стало страшно.
От Рэтлифа мы и узнали в первый раз о Сноупсе. Или, вернее, о Сноупсах. Или нет, неправда: в 1864 году был в кавалерийском эскадроне полковника Сарториса один Сноупс, в том эскадроне, который был отряжен, чтобы нападать на передовые посты янки и уводить у них лошадей. Только однажды его, этого самого Сноупса, схватили конфедераты, потому что он у них хотел лошадей угнать, и, по слухам, повесили. Но, видно, и это тоже неправда, потому что (как сказал Рэтлиф дяде Гэвину) лет десять назад Флем и какой-то старик, видимо его отец, появились в наших краях неизвестно откуда и арендовали маленькую ферму у Билла Уорнера, державшего в своих руках чуть не весь округ и деревушку Французову Балку в двадцати милях от Джефферсона. Ферма эта была такая маленькая и захудалая, земля на ней так истощилась, что только самые что ни на есть никудышные фермеры брали ее в аренду, да и те больше года никогда не удерживались. Но Эб с Флемом все же арендовали ее, и, видимо (как сказал Рэтлиф), он, или Флем, или оба они вместе нашли это самое…
– Что? – спросил дядя Гэвин.
– Сам толком не знаю, – сказал Рэтлиф. – То, что дядюшка Билл и Джоди зарыли, как им казалось, надежно, – потому что в ту же зиму Флем стал приказчиком в лавке у дядюшки Билла. И то, что они нашли там, на ферме, видно, пошло им впрок, или, может, оно им уже было ни к чему; может, Флем теперь нашел что-то такое, что, как казалось Уорнерам, было надежно спрятано под стойкой в самой лавке. Потому что еще через год Эб переехал на Французову Балку к сыну, и тут откуда ни возьмись появился новый Сноупс и поселился на арендованной ферме; а там, через два года, еще один Сноупс арендовал у Уорнера кузню. И стало на Французовой Балке Сноупсов столько же, сколько Уорнеров; а через пять лет после этого, в тот самый год, когда Флем переехал в Джефферсон, Сноупсов стало даже больше, чем Уорнеров, потому что одна из Уорнеров вышла замуж за Сноупса и теперь кормила грудью еще одного маленького Сноупсика.
Видно, теперь Флем нашел что-то уже в доме у дядюшки Билла. Нашел его единственную дочку, она была младшая из детей, не просто деревенская красавица, а первая красавица на всю округу. И он это сделал не только из-за земли и денег старого Билла. Потому что я тоже ее видел и знаю, какая она, хоть тогда она уже была взрослая и замужем и у нее уже была дочка старше меня, а мне было сперва только одиннадцать, потом двенадцать, а потом тринадцать лет. («Ну да, – сказал дядя Гэвин. – Даже в двенадцать лет глупо воображать, что ты первый сходишь с ума из-за такой женщины».) Она не была рослой, статной, похожей, как говорится, на Юнону. Просто трудно было поверить, что одна живая женская плоть может все это вместить и удержать в себе: слишком много белизны, слишком много женственности, быть может, слишком много сияния, не знаю уж, как это назвать: но только взглянешь на нее и сразу чувствуешь словно бы прилив благодарности за то, что ты мужчина и живешь на свете, существуешь вместе с ней во времени и пространстве, а в следующий миг (и уже навсегда) тебя охватывает какое-то отчаянье, потому что ты знаешь, что никогда одного мужчины не хватит, чтобы удостоиться, заслужить и удержать ее; и тоска навеки, потому что отныне и вовек ты ни о ком другом и помыслить не сможешь.
Вот что на этот раз нашел Флем. В один прекрасный день, как рассказывал Рэтлиф, на Французовой Балке узнали, что накануне Флем Сноупс и Юла Уорнер уехали в соседний округ, уплатили налог и поженились; и в тот же день, как рассказывал все тот же Рэтлиф, на Французовой Балке узнали, что трое парней, давние поклонники Юлы, тоже уехали ночью, – говорили, будто в Техас или еще куда-то на Запад, так далеко, что дядюшке Биллу или Джоди Уорнеру нипочем бы их не достать, даже если б они и вздумали попробовать. А через месяц Флем с Юлой тоже уехали в Техас (в этот край, как сказал дядя Гэвин, который в наше время служит убежищем для преступников, банкротов или просто оптимистов), а на другое лето вернулись с девочкой, которая была немного велика для трехмесячной…
– И еще эти лошади, – сказал дядя Гэвин.
Это мы знали, потому что не Флем Сноупс первый их сюда пригнал. Почти каждый год кто-нибудь пригонял в нашу округу откуда-нибудь с Запада, из прерии, табун диких, необъезженных лошадей и продавал их с торгов. На этот раз с лошадьми приехал какой-то человек – видимо, из Техаса, и в тот же самый день оттуда вернулся Сноупс с женой. Только лошади были очень уж дикие, и кончилось тем, что эти зверюги, пестрые, как ситец, необъезженные, да объезжать их и думать нечего было, разбежались не только по Французовой Балке, но и по всей восточной части округа. И все же никто не доказал, что лошади были Флемовы.
– Нет, нет, – сказал дядя Гэвин. – Вы ведь не задали дёру, как те трое, как только вспомнили о дробовике дядюшки Уорнера. И не говорите мне, что Флем Сноупс выменял у вас вашу половину ресторанчика на одну из этих лошадей, потому что я все равно не поверю. На что он ее выменял?
Рэтлиф сидел перед ним в чистой рубашке, лицо приветливое, смуглое, гладко выбритое, и его умные, проницательные глаза избегали взгляда дяди Гэвина.
– На тот старый дом, – сказал он. Дядя Гэвин молчал. – На усадьбу Старого Француза. – Дядя Гэвин молчал. – Ну, где зарыты деньги.
И тут дядя Гэвин понял: ведь во всем Миссисипи и даже на всем Юге нет ни одного старого плантаторского дома довоенных времен, с которым не была бы связана легенда о деньгах и серебряной посуде, зарытых в саду, чтоб спасти их от янки, – на этот раз речь шла о разрушенном доме, который принадлежал Уорнеру, а в старину господствовал над деревушкой и дал ей свое имя, откуда и пошло название Французова Балка. Во всем был виноват Генри Армстид, это он вздумал расквитаться со Сноупсом за лошадь, которую тот техасец ему продал, а он, гоняясь за ней, сломал ногу.
– Или нет, – сказал Рэтлиф, – я тоже виноват, как и всякий другой, как и все мы. Отгадать, на что Флему эта старая усадьба, которая торчит у всех на глазах, было не так-то просто. Я не о том говорю, зачем Флем стал бы ее покупать. Я о том, зачем он взял ее даром. Когда Генри стал ходить за Флемом по пятам и следить за ним и выследил наконец, что он копает в старом саду, то ему, Генри, не пришлось долго убеждать меня поехать туда назавтра и своими глазами убедиться, что Флем там копает.
– А когда Флем наконец бросил копать и ушел, вы с Генри вылезли из кустов и тоже принялись копать, – сказал дядя Гэвин. – И нашли. Нашли часть клада. Но этого было вполне довольно. Ровно столько, чтобы вы, едва дождавшись рассвета, бросились к Флему и обменяли свою половину ресторана на половину усадьбы Старого Француза. И долго вы с Генри еще потом копали?
– Я-то бросил на вторую ночь, – сказал Рэтлиф. – Как только сообразил да поглядел на эти деньги повнимательней.
– Так, – сказал дядя Гэвин. – На деньги.
– Мы с Генри откопали серебряные доллары. Среди них были и старые. Среди тех, что достались Генри, был один, отчеканенный почти тридцать лет назад.
– Понятно. Он, выходит, подсыпал вам золотишко в песок, как делают старатели, – сказал дядя Гэвин. – Старо как мир, и все же вы попались на эту удочку. Не Генри Армстид, а вы.
– Да, – сказал Рэтлиф. – Это почти так же старо, как тот платок, что уронила тогда Юла Уорнер. И почти так же старо, как дробовик дядюшки Билла.
И больше он тогда ничего не сказал. А еще через год он остановил дядю Гэвина на улице и сказал:
– Если суд ничего не имеет против, Юрист, я хотел бы внести поправку. Я хочу переменить «тогда» на «все еще».
– «Тогда» на «все еще»?
– В прошлом году я сказал: «Платок, что уронила тогда миссис Флем Сноупс». А теперь я хотел бы переменить это «уронила» на «все еще роняет». Я знаю одного человека, который все еще не прочь его поднять.
А Сноупс за полгода не только выпер из ресторанчика компаньона, но и самого его там уже не было, а его место за грязной стойкой и в парусиновой палатке занял другой Сноупс, засосанный из Французовой Балки той пустотой, которая образовалась от продвижения первого, – он просочился сюда тем же способом, каким, как сказал Рэтлиф, они заполонили всю Французову Балку, сплошным потоком: каждый Сноупс на Французовой Балке поднимался на одну ступень, оставляя за собой свободное пространство для следующего Сноупса, который являлся неизвестно откуда и занимал его место, и, без сомнения, очередной Сноупс уже был там, хотя Рэтлиф еще не успел съездить туда и убедиться в этом.
Теперь Флем с женой арендовали домик на окраине города, и Флем стал смотрителем городской электростанции, которая приводила в действие водокачку и давала городу ток. Сначала мы просто остолбенели; и не оттого, что Флем получил место, до этого мы тогда еще не дошли, а оттого, что мы до тех пор и не подозревали, что есть такое место, что существует такая должность в Джефферсоне – смотритель электростанции. Потому что с электростанцией – с котлами и машинами, которые приводили в действие насос для водопровода и генератор, – управлялся старый моторист с лесопилки по фамилии Харкер, а за генератором и городской электросетью следил тогда электротехник, которому город платил по контракту, и все шло как по маслу с тех самых пор, как в Джефферсоне появились водопровод и электричество. И вдруг неожиданно на электростанции потребовался смотритель. И так же неожиданно, в то же самое время, какой-то чужак, который не прожил в городе и двух лет и (как мы думали) сроду не видел электрической лампочки до того самого вечера два года назад, когда приехал сюда, стал смотрителем.
Только это нас и удивило, а что этот чужак был Флем Сноупс, мы не удивились. Потому что к тому времени все мы уже видели миссис Сноупс, а видели мы ее редко, только за стойкой в ресторанчике, когда она, в таком же засаленном переднике, жарила котлеты, яичницу с ветчиной и жесткие бифштексы на грязной керосинке, – или раз в неделю на площади, где она всегда бывала одна; казалось, она никуда не шла: просто ходила, двигалась в ореоле благопристойности, и скромности, и одиночества, в десять раз более нескромная и в сто раз более волнующая, чем какая-нибудь молодая женщина в купальном костюме, вроде тех, что начали носить в начале двадцатых годов, словно лишь за секунду до того, как тебе на нее взглянуть, одежда настигала и окутывала ее стремительным, мятущимся, бешеным вихрем. Но только на один миг, потому что тотчас же, если идти за ней следом, одежда никла и спадала просто оттого, что шла она так, словно звезда, блуждая по небу, проглянула сквозь мокрые клочья докучливых облаков.
Ну а нашего мэра, майора де Спейна, мы знали давно. В Джефферсоне, штат Миссисипи, да и на всем Юге было в те времена полно людей, которые звались генералами, или полковниками, или майорами, потому что их отцы или деды быти генералами, или полковниками, или майорами, или, может, просто рядовыми в армии Конфедерации, или внесли свою лепту в общее дело, с успехом послужив ему на посту губернатора штата. Но отец майора де Спейна действительно был майор кавалерии, и сам де Спейн окончил военную академию в Уэст-Пойнте и отправился воевать на Кубу младшим лейтенантом и вернулся оттуда раненый – длинный шрам тянулся у него от самых волос через левое ухо и через всю щеку, такой шрам могла оставить сабля или шомпол, – так что мы, естественно, думали, что его ранил в бою какой-нибудь испанец, – или же, как утверждали перед выборами мэра его политические соперники, его рубанул топором какой-то сержант, когда они играли в кости.
Потому что едва он вернулся и снял свою голубую форму, какую носили янки, мы сразу поняли, что он и Джефферсон ни в какую не подходят друг для друга и кому-нибудь придется капитулировать. И уж конечно, не де Спейну: он не сбежит из Джефферсона и даже не подумает приспосабливаться к Джефферсону, а постарается так скрутить Джефферсон, чтобы город к нему приспосабливался, и – молодежь очень на это надеялась – он добьется своего.
Прежде Джефферсон был как все другие южные городки: здесь не происходило никаких событий с тех самых пор, как последний янки либо убрался восвояси, махнув рукой, либо стал самым настоящим миссисипцем. У нас, как полагается, был мэр и совет олдерменов, которые, как молодежи казалось, сидели на своих местах со времен Ноева ковчега или, уж во всяком случае, с тех пор, как последний индеец племени чикасо отправился в Оклахому в 1820 году, и были тогда такими же старыми, как теперь, и даже не стали старее; мэр, старый мистер Адамс, с длинной, как у патриарха, седой бородой, наверно, казался молодым ребятам, вроде моего двоюродного брата Гауна, едва ли не древнее самого Господа Бога, словно он и в самом деле был первым человеком на земле; и дядя Гэвин говорил, что не одни только мальчишки по двенадцать и тринадцать лет, вроде моего двоюродного брата Гауна, фамильярно называли его «мистер Адам», отбрасывая конечное «с», а его толстую старую жену – «мисс Ева Адам», – впрочем, этой толстой старой Еве давно уже не грозила опасность вызвать у змея или еще у кого-нибудь желание искушать ее.
Нам было любопытно, каким же топором лейтенант де Спейн обтешет углы Джефферсона, чтобы город стал ему в самую пору. И однажды он нашел подходящий топор. Наш электротехник (тот, который следил за генераторами, динамо-машинами и трансформаторами) был гений. Однажды в 1904 году он выехал со своего заднего двора на улицу в первом автомобиле, какой мы видели, сработанном собственными его руками, целиком, от мотора и магнето до спиц, и появился на площади в тот самый миг, когда через нее ехал домой полковник Сарторис в своей банкирской коляске, запряженной кровными рысаками. Хотя полковник Сарторис и его кучер не пострадали и на лошадях, когда их удалось поймать, не было ни царапинки, а коляску электротехник предложил починить (говорили, что он предлагал даже поставить на нее бензиновый мотор), полковник Сарторис самолично выступил на очередном заседании совета олдерменов, и они вынесли указ, запрещавший ездить по улицам Джефферсона на каких бы то ни было средствах передвижения с мотором.
Этим и воспользовался де Спейн. И не он один. Этого только и дожидалось все нынешнее поколение молодых людей, не только в Джефферсоне, но и повсюду, видевшее в этих вонючих шумных самодельных и самодвижущихся драндулетах, которые мистер Баффало (электротехник) мастерил в свободное время из всякой рухляди у себя на заднем дворе, не просто явление, но предзнаменование, будущность Соединенных Штатов. Ему, де Спейну, не нужна была даже предвыборная кампания, чтобы стать мэром: ему нужно было только выставить свою кандидатуру. И старые, видавшие виды отцы города тоже это поняли, потому-то они и прибегли к отчаянному средству – выдумали, или откопали, или снова повторили (как угодно) эту историю про игру в кости на Кубе и про топор сержанта. И тогда де Спейн покончил с этим раз и навсегда, без всякой политики; сам Цезарь не мог бы сделать это чище.
Это было утром, когда приходит почта. Мэр Адамс и его младший сын Терон, который был моложе де Спейна и даже ненамного его здоровее, а только повыше ростом, выходили с почты, и тут им встретился де Спейн. Вернее, он стоял там, окруженный целой толпой зевак, и уже дотронулся пальцем до своего шрама, когда Адамс его увидел.
– Доброе утро, господин мэр, – сказал он. – Что это за слухи ходят по городу насчет игры в кости и топора?
– Именно этот вопрос и хотели бы задать вам избиратели Джефферсона, сэр, – сказал мистер Адамс. – Если у вас есть доказательства, что это не так и за ними не надо ехать на Кубу, я посоветовал бы вам их представить.
– Я знаю более простой способ, – сказал де Спейн. – Вы, ваша честь, староваты для этого, но Терон уже взрослый малый, с вашего позволения мы с ним сходим в скобяную лавку Маккаслина, возьмем пару топоров и живо выясним, кто прав.
– Бросьте, лейтенант! – сказал Терон.
– Не беспокойтесь, – сказал де Спейн. – Топоры за мой счет.
– До свиданья, джентльмены, – сказал Терон. И на том они покончили. А в июне де Спейна выбрали мэром. Это был целый переворот, потому что не в том было дело, что он победил, прошел на выборах. В Джефферсоне наступила новая эра, и он был лишь ее поборником, Годфридом Бульонским, Танкредом, джефферсонским Ричардом Львиное Сердце двадцатого века.
Он достойно носил эту мантию. Или нет; то была не мантия: то было знамя, стяг, и он нес его, он уже был впереди, прежде чем мы в Джефферсоне поняли, что готовы идти за ним. Он назначил мистера Баффало городским электротехником и положил ему месячный оклад. Но первое его официальное постановление касалось указа полковника Сарториса насчет автомобилей. Мы, конечно, думали, что он со своими новыми членами городского совета отменит указ хотя бы только потому, что этот старый пень полковник Сарторис велел другому старому пню, мэру Адамсу, издать его. Но они этого не сделали. Как я уже сказал, когда его выбрали, это был настоящий переворот; похоже, что этот разговор насчет топора со старым мэром Адамсом и Тероном возле почты раскрыл глаза всей джефферсонской молодежи. Я хочу сказать – всем тем, которые еще не владели лавкой или хлопкоочистительной машиной или не имели адвокатской или врачебной практики, но были всего лишь приказчиками и счетоводами в лавках, при хлопкоочистительных машинах и в конторах, стараясь скопить достаточно денег, чтобы жениться, и все они дружно провели де Спейна в мэры. И им удалось не только это, они сделали больше: прежде чем они сами поняли или успели подумать, они вытеснили дряхлых олдерменов и залезли на места отцов города, уцепившись за фалды Манфреда де Спейна или хотя бы за этот самый топор. Казалось, они первым делом должны бы навсегда выбросить на свалку этот автомобильный закон, но они, наоборот, велели написать его на куске пергамента, как диплом или грамоту, вставить в рамку и повесить на стену в городском управлении под стеклом с электрической лампочкой, и скоро люди, приезжавшие на автомобилях из самого Чикаго, стали смеяться над ним. Потому что, как сказал дядя Гэвин, в то сказочное, легендарное время автомобиль почитали чудом, это было еще до того, как автомобиль появился у каждого американца и под колесами стало гибнуть больше людей, чем на войне.
Он, де Спейн, сделал даже больше. Он сам пригнал в город первый настоящий автомобиль – красный открытый гоночный автомобиль, продал упряжных лошадей, которые достались ему от отца, разломал стойла, ясли и перегородки и устроил первый в Джефферсоне гараж и автомобильное агентство, так что теперь автомобили могли купить и члены городского совета, и все прочие молодые люди, которым ни один банк не ссудил бы на это и цента ни под какое обеспечение. Да, да, век моторов вступил и в Джефферсон, и де Спейн возглавил шествие в этом красном открытом автомобиле, непривычном и привлекательном, который выглядел таким же закоренелым холостяком и ветреником, каким был сам де Спейн. И каким он всегда останется, один в своем большом деревянном доме, доставшемся ему от отца, с поваром и лакеем в белом сюртуке; он всегда был в первой паре в котильоне, и дамы первым выбирали его, а если бы в те времена уже собирались в кафе завсегдатаи – не аристократы, не четыреста семейств, а именно завсегдатаи кафе – и у нас в Джефферсоне узнали бы про это, он и тут был бы первым; родись он лет через тридцать, из него, наверное, сделали бы приторную олеографию и молились бы на него, как молятся на Гейбла, Харлоу и Монро, которых при жизни причислили к лику американских святых.
А миссис Сноупс мы в первый раз увидели, когда она шла по площади и, казалось, тело ее вот-вот, среди бела дня, воспламенит одежду и даже тонкой вуали пепла на нем не останется, и нам казалось, что мы видим судьбу, саму Судьбу, на которую обречены они оба, она и мэр де Спейн. Мы не знали, когда они встретились, когда впервые взглянули друг на друга. Нам это и не нужно было. Мы, можно сказать, и не хотели знать этого. Мы предполагали, конечно, что он приводит ее к себе в дом по ночам какими-то хитрыми путями и способами, но и этого мы не знали наверняка. Будь на его месте кто-нибудь другой, среди нас нашлись бы такие – какой-нибудь мальчишка или юноша, – что всю ночь пролежали бы в засаде, лишь бы узнать все. Но за ним мы не следили. Наоборот, мы были на его стороне. Мы не хотели ничего знать, мы были его союзниками, конфедератами; весь город был его сообщником, помогал ему наставлять рога Сноупсу, хотя мы никак не могли доказать, что не мы сами выдумали все это от начала до конца; мы не раз видели, как де Спейн и Сноупс дружелюбно идут рядом, и в то самое время (хотя мы этого еще не знали) де Спейн уже учреждал или обдумывал, как бы учредить эту должность смотрителя электростанции, – мы-то не знали даже, что у нас ее нет, не говоря уж о том, что она нам нужна, – и потом предоставил ее мистеру Сноупсу. И не то чтобы мы были против мистера Сноупса, мы еще не прочли письмена и знамения, которые предупредили, предостерегли, побудили бы нас сплотиться и грудью защищать от него наш город, и мы вовсе не были за супружескую измену, за грех: мы просто были за де Спейна и Юлу Сноупс, зато, что Гэвин называл божественностью простой, безгрешной и безграничной бессмертной страсти, которую они воплощали; за этих двоих, которые нашли друг в друге суженых и поняли, что на всем свете они созданы друг для друга, и мы гордились, что все это разыгралось в Джефферсоне.

