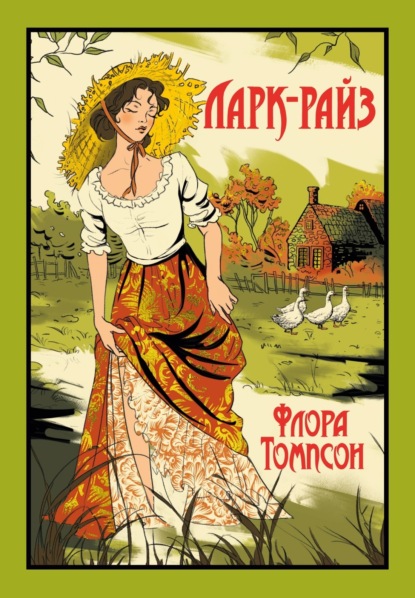
Полная версия:
Ларк-Райз
Если шел дождь, они набрасывали на себя мешки, вспоров один из боковых швов, так чтобы получилось некое подобие плаща с капюшоном. В мороз грели дыханием пальцы и хлопали себя ладонями по груди, чтобы согреться. Если после завтрака, состоявшего из одного хлеба и лярда, по-прежнему ощущали голод, то очищали и жевали репу или проглатывали один-два кусочка сытного темно-коричневого жмыха, заготавливаемого для скота. Некоторые мальчики пробовали сальные свечи из конюшенных фонарей; но делали это скорее из озорства, чем от голода, ведь как бы семья ни нуждалась, мать всегда заботилась о том, чтобы у ее Тома или Дики «было что перехватить до обеда» – половина холодного блинчика или остатки вчерашнего сладкого рулета.
С криками «но!», «шевелись!» и «тпру!» работники уходили. Мальчиков сажали на спины высоких ломовых лошадей, а мужчины, шедшие рядом, набивали дешевым табаком свои глиняные трубки и делали первые драгоценные затяжки за день, пока упряжки под щелканье кнутов, цоканье копыт и позвякивание сбруи передвигались по грязным проселкам.
Названия полей давали ключ к их истории. Рядом с фермой находились «поле на рву», «рыбоводные пруды», «голубятня», «псарня» и «кроличий садок», свидетельствовавшие о тех временах, когда тюдоровский дом занял место другой, более древней постройки. «Жаворонковый холм», «кукушкины заросли», «ивовое поле» и «поле у пруда» были названы по особенностям расположения, а «Гиббардово поле» и «Блэквеллов надел», вероятно, в честь давно забытых бывших арендаторов. Большие новые поля вокруг Ларк-Райза были расчищены слишком поздно и не имели названий, поэтому их именовали «сто акров», «шестьдесят акров» и так далее, в зависимости от площади. Один-двое старожилов упорно называли одно из этих полей «верещатником», а другое – «скаковым кругом».
Мужчины в большинстве своем были безразличны к названиям; имя – это просто имя, и ничего оно не значит. А вот что имело для них значение в поле, на котором им приходилось работать, так это плоха или хороша дорога, ведущая к нему от фермы; и каково само поле: сравнительно защищено или являет собой одно из тех промозглых открытых пространств, где гуляет ветер и хлещет дождь, вымачивая человека до нитки; и легко ли обрабатывать тамошнюю почву, или она непосильно тяжела, или так опутана ползучим пыреем, что лемех едва может прорезать ее.
Обычно на поле выходили три-четыре плуга, каждый из которых тянула упряжка из трех лошадей; рядом с коренником шел мальчик, позади, за плугом, пахарь. Весь день они сновали туда и обратно, оставляя на светлой пашне темные полосы борозд, которые с наступлением дня становились все шире и постепенно сближались друг с другом, пока наконец все поле не приобретало насыщенный, бархатистый сливовый оттенок.
За каждым плугом следовали грачи, искоса осматривая комья земли в поисках червей и личинок. Маленькие птички, обитавшие в живой изгороди, порхали туда-сюда с намерением получить свою крошечную долю поживы. Жалобно блеяли овцы на соседнем поле; но мычание, карканье и щебет перекрывали извечные крики земледельца: «Трогай!», «Н-но-о!», «Давай, родимая!», «Пошла, сивка!», «Па-а-рнь, оглох ты, что ль, иль на ухо туговат, черт тя дери!».
После того, как выполнял свою работу плуг, для измельчения комьев земли использовался каток на конной тяге; затем борона выдирала сорняки и пырей, оставляя на полях аккуратные кучки, которые позднее поджигали, наполняя воздух голубой дымкой и ароматом, который запоминался на всю жизнь. Затем сеяли зерно, прореживали посевы, рыхлили землю и наконец пожинали урожай, после чего весь процесс начинался заново.
Машины в сельском хозяйстве только входили в употребление. Каждую осень в полях появлялась пара больших тракторов на паровой тяге, которые размещались по бокам поля и тащили на тросах плуг поперек пашни. Работая по найму на разных фермах, они гастролировали по всей округе, а с ними и небольшой фургон, так называемый кузов, в котором жили и спали оба тракториста. В девяностые годы, решив эмигрировать и вознамерившись перед тем изучить сельское хозяйство, оба Лориных брата по очереди нанимались на паровой плуг, повергнув в ужас других обитателей Ларк-Райза, которые смотрели на таких кочующих работников как на изгоев. В своих представлениях они еще не дошли до того, чтобы выделять механизаторов в отдельный класс, а посему относили их к низшему разряду вместе с мусорщиками, лудильщиками и прочими ремесленниками, чьи занятия делали лица и одежду черными. С другой стороны, на приказчиков и торговцев всех мастей, чья безупречная опрятность, казалось бы, могла обеспечить им уважение, тоже смотрели свысока, как на «лавочных шаркунов». В глазах селян цвет общества составляли землевладельцы, фермеры, трактирщики и полевые работники, и только после них следовали мясник, пекарь, мельник и бакалейщик.
Техника, которой владел фермер, была на конной тяге и употреблялась не всегда. На некоторых полях посев осуществляла сеялка, запряженная лошадьми, по другим же бродил взад-вперед сеятель с корзиной, повешенной на шею, и разбрасывал зерно обеими руками. Во время жатвы механическая жатка стала уже привычным зрелищем, однако выполняла лишь малую часть работы; мужчины по-прежнему использовали косы, а несколько женщин до сих пор срезали колосья серпами. Взятая напрокат молотилка переходила с фермы на ферму, и ее применяли практически везде; но дома мужчины все так же молотили урожай со своих наделов и колосья, собранные со стерни их женами, цепом и провеивали зерно, пересыпая его из сита в сито на ветру.
Работники трудились усердно и на совесть, когда считали, что этого требуют обстоятельства, и всегда поддерживали ходкий размеренный темп. Разумеется, одни проявляли себя лучше, другие хуже; но большинство мужчин гордились своим ремеслом и любили растолковывать посторонним, что полевые работы – не такое уж примитивное занятие, как считают некоторые горожане. Все надо делать как положено и в надлежащий момент, говорили они; в сельском хозяйстве уйма тонкостей, на изучение которых уходит целая жизнь. Некоторые мужчины не столь завидного телосложения похвалялись: «Мы получаем десять шиллингов в неделю и отрабатываем каждый пенни; они нам тяжелехонько достаются!» Но в коллективной работе, во всяком случае, эти «малосильные» батраки вынуждены были поспевать за остальными и сохраняли пусть и медленный, однако устойчивый темп.
Пока пахари ходили за плугом, другие мужчины поодиночке, по двое или по трое мотыжили и боронили землю или унавоживали другие поля, а также чистили канавы, занимались осушением, пилили дрова, измельчали солому или выполняли иные вспомогательные работы на ферме. Двух-трех многоопытных работников среднего возраста иногда нанимали сдельно: подстригать живые изгороди и рыть канавы, стричь овец, крыть дома соломой или косить, в зависимости от времени года. У возчика, пастуха, скотника и кузнеца было свое особое дело. Это были важные люди, зарабатывавшие на два шиллинга в неделю больше, чем прочие, и проживавшие рядом с усадьбой, в коттеджах, освобожденных от арендной платы.
Перекрикиваясь через борозды, пахари не называли друг друга «Миллер», «Гаскинс», «Таффри» и даже «Билл», «Том» или «Дик», поскольку у каждого из них было прозвище и они охотнее откликались на Красавчика, Тыкву или Ходока. Зачастую о первоначальном происхождении этих кличек не помнили даже их носители; но о некоторых можно было догадаться по чертам характера. У Кривого или Косого имелось легкое косоглазие; Старый Заика страдал косноязычием, а Пужин был прозван так за то, что, когда ему хотелось перекусить на работе, он говорил: «Пора мне пужинать», используя старинное слово «паужин», которое со временем превратилось в «полдник».
Когда несколько лет спустя Эдмунд некоторое время работал в поле, возчик, задав ему какой-то вопрос и поразившись дельности ответа, воскликнул: «Ну, па-а-рнь, ты мудрец, прямо Соломон, нареку-ка я тебя Соломоном!» – и с тех пор юношу звали Соломоном, покуда он не уехал из деревни. Младшего брата Эдмунда прозвали Воронком, но происхождение этой клички было загадкой. Мать, больше любившая сыновей, чем дочерей, называла его «мой жаворонок».
Иногда в поле вместо дружеского оклика плугаря раздавался низкий шипящий свист. Это был условный знак, предупреждавший о приближении Старика Понедельника – управляющего фермой. Тот ехал по бороздам на своем маленьком длиннохвостом сером пони, сам такой долговязый, а его конек такой низкорослый, что ноги всадника почти касались земли. Краснолицый, морщинистый старик с физиономией щелкунчика размахивал своей ясеневой палкой и кричал:
– Здорово, ребята! Эй! Что это вы там делаете?
Он отрывисто расспрашивал их, время от времени отыскивал какие-нибудь изъяны, но в основном был довольно справедлив в своем к ним отношении. Однако в глазах работников управляющий имел один большой недостаток: он сам вечно спешил и поторапливал остальных, а этого они не выносили.
Прозвищем Старик Понедельник, или Десять Утра, его наградили много лет назад, когда произошла какая-то заминка в работе и он, как рассказывают, воскликнул: «Уже десять утра! Сегодня понедельник, завтра вторник, послезавтра среда – половина недели миновала, а ничего не сделано!» Разумеется, это была заглазная кличка; в глаза ему говорили «да, мастер Моррис» и «нет, мастер Моррис», а также «посмотрю, что можно сделать, мастер Моррис». Самые робкие даже обращались к нему «сэр». Но как только управляющий фермой отворачивался, какой-нибудь шутник одной рукой показывал кукиш, а другой хлопал себя по ягодицам и тихонько приговаривал: «Фиг тебе, старый черт!»
В полдень, определив его по солнцу или по сигналу обладателя одного из старинных часов-луковицы, передававшихся от отца к сыну, пахари прерывались на обед. Лошадей распрягали, отводили к живой изгороди или стогу сена и вешали им на шею торбы[10], а мужчины и мальчики располагались на расстеленных рядом с животными мешках, откупоривали жестяные бутылки с холодным чаем и разворачивали красные платки с едой. У иных счастливчиков имелись хлеб и холодный бекон – возможно, верхняя или нижняя корка домашней буханки, на которую клали маленький кусочек бекона, а сверху – ломоть хлеба, называемый «покрышкой» и предназначенный для того, чтобы не приходилось дотрагиваться до мяса рукой и было удобно манипулировать складным ножом. Употребление этого блюда было опрятным и благопристойным: маленький кусочек бекона с хлебом отрезали и одним движением отправляли в рот. Менее удачливые поедали хлеб с лярдом или куском сыра; а пареньку с остатками холодного пудинга шутливо советовали не измазать «евонной патокой» уши.
Пища вскоре исчезала, крошки с красных носовых платков стряхивали птицам, мужчины закуривали трубки, а мальчики бродили с рогатками вдоль живой изгороди. Самые старшие из мужчин нередко проводили этот час досуга, обсуждая политику, последнее громкое убийство или местные дела; но бывало, особенно если среди них находился любитель такого рода вещей, работники коротали время, пересказывая истории, которые женщины стыдливо именовали «мужскими байками».
Байки эти, травившиеся исключительно в поле и никогда не звучавшие за его пределами, составляли своего рода деревенский «Декамерон», который, кажется, существовал веками и, перекатываясь из поколения в поколение, нарастал как снежный ком. Рассказам этим полагалось быть чрезвычайно непристойными, и мужчины постарше после таких посиделок говорили: «Я встал и убрался восвояси, потому как больше не мог этого выносить. У них изо рта полился жупел, когда они принялись молоть своими грязными языками». Какими были эти байки в действительности, знали только мужчины; но, вероятно, скорее грубыми, чем сальными. Судя по нескольким образчикам, случайно подслушанным школьниками, они состояли в основном из фраз «он сказал» и «она сказала», а также обильного перечисления тех частей тела, которые тогда именовались «срамными».
Песенки и куплеты того же содержания распевали только на пашнях и под живыми изгородями и нигде больше не повторяли. Иные похабные вирши были состряпаны столь ловко, что исследователи данной темы приписывали их авторство какому-нибудь распутному сынку священника или профессора. Возможно, кто-то из этих молодых безобразников и приложил руку к сим сочинениям, но столь же вероятно, что они родились сами собой, ибо в те времена, когда церковь посещали все, в памяти людей хранилось много гимнов и псалмов, и кое-кто весьма удачно их пародировал.
Возьмем, к примеру, «Дочь псаломщика». Однажды рождественским утром эту девицу послали в церковь сообщить отцу, что после того, как он ушел из дома, прибыл рождественский подарок – мясо. Когда она добралась до церкви, служба уже началась, и паства во главе с ее отцом уже прочла половину псалмов. Ничуть не смутившись, девица бочком приблизилась к батюшке и нараспев произнесла: «Отец мой, мясо принесли-и-и, что мне и матушке с ним де-е-лать?» Последовал ответ: «Скажи ей, пусть зажарит толстый край и сварит то-о-нкий, а мне пусть пудинг пригото-о-вит». Но столь невинная потеха не устроила вышеупомянутого шутника. Он нарочно тянул самые двусмысленные рифмы, а затем начинал импровизировать, вставляя в текст имена всем известных любовников и подымая на смех отцов первенцев. Хотя девять из десяти его слушателей относились к этому неодобрительно и чувствовали себя чрезвычайно неловко, они не делали ничего, чтобы удержать его, лишь мягко замечали: «Тише, не то мальчики услышат!» или: «Осторожно! Кажется, там по дороге женщина идет».
Но проделки бесстыжего скандалиста не всегда спускали ему с рук. Настал день, когда рядом с ним очутился молодой отставной солдат, вернувшийся домой после пятилетней службы в Индии. Он вытерпел одну-две такие на ходу сочиненные песенки, а затем, покосившись на исполнителя, коротко велел: «Поди-ка прополощи свой грязный рот».
Ответом был громкий куплет, в котором фигурировало имя оппонента. Тут бывший солдат не выдержал, вскочил на ноги, схватил похабника за шиворот, повалил на землю и после рукопашной напихал ему в рот земли и мелких камешков.
– Вот, это намного чище! – промолвил он и отвесил противнику последний пинок по ягодицам, а парень, кашляя и отплевываясь, скрылся за изгородью.
В поле до сих пор еще работали несколько женщин, но, как правило, не вместе с мужчинами и даже не на одном поле; у них были свои обязанности: прополка и рыхление, сбор камней, обрезка ботвы у репы и кормовой свеклы; а в сырую погоду – починка мешков в амбаре. Говорили, что раньше тут обитала большая артель полевых работниц, необузданных, порочных созданий, иные из которых считали, что четыре-пять внебрачных детей – это сущие пустяки. Их время прошло; но, памятуя об их репутации, большинство сельских женщин испытывали отвращение к полевым работам. В восьмидесятые годы в поле трудились около полудюжины женщин из Ларк-Райза, по большей части – респектабельные особы среднего возраста, которые, вырастив детей, имели теперь досуг, любили жизнь на свежем воздухе и желали заполучить несколько лишних шиллингов в неделю, которые могли бы назвать своими.
Они трудились с десяти до четырех, с часовым перерывом на обед, рассчитывая время так, чтобы управиться с домашними делами утром, до того, как уйдут в поле, и успеть приготовить мужу ужин по возвращении домой. Их жалованье составляло четыре шиллинга в неделю. Они работали в чепцах, подбитых гвоздями башмаках и мужских пальто, повязывая вокруг пояса грубый передник из мешковины. Одна из них – миссис Спайсер – была первой, кто надел брюки; она щеголяла в вельветовых штанах своего мужа. Другие шли на компромисс, натягивая обрезанные штанины вместо гетр. Крепкие, здоровые, обветренные, твердые, как гвозди, эти женщины трудились в любую погоду, кроме совсем уж ненастной, и заявляли, что «вовсе рехнутся», если им придется весь день сидеть дома взаперти.
Прохожему, увидевшему, как работницы гнут спины в поле, стоя в ряд, они могли бы показаться похожими, как горошины в стручке. Ничего подобного. Была среди них Лили, единственная незамужняя женщина, большая, сильная и неповоротливая, как ломовая лошадь, смуглая, как цыганка, с въевшейся в кожу глиной и всегда пахнувшая землей, даже в доме. Много лет назад ее бросил мужчина, и она поклялась, что не выйдет замуж, покуда не воспитает мальчика, которого родила от него; по мнению ее соседей, клятва была совершенно излишняя, поскольку Лили принадлежала к числу очень немногих по-настоящему уродливых людей.
В восьмидесятые это была женщина лет пятидесяти, существо низменное, приземленное, чья жизнь состояла лишь из труда, еды и сна. Она жила одна в крошечном коттедже, где, по ее уверениям, могла взять любую пищу, съесть ее, а потом убрать за собой, не вставая от очага. Лили умела немного читать, но разучилась писать, и мать Лоры писала за нее письма ее сыну-солдату в Индию.
Еще была миссис Спайсер, та, что носила штаны, – старуха грубая на язык, зато независимая и честная, содержавшая дом в безупречной чистоте и похвалявшаяся, что никому не должна ни пенни и ни от кого ничего не хочет. Кроткий, затюканный муженек ее обожал.
Весьма отличалась от этих двоих милая, розовощекая миссис Брэби, всегда носившая в кармане яблоко или пакетик мятных леденцов на случай, если повстречает какого-нибудь полюбившегося ей малыша. В свободное время она запоем читала романы и на свои четыре шиллинга выписывала журналы «Боу беллз» и «Фэмили хералд»[11]. Однажды, когда Лора, возвращаясь домой из школы, случайно нагнала миссис Брэби, та всю оставшуюся дорогу развлекала ее пересказом печатавшегося в журнале романа под названием «Его ледяная королева», поведав, как богатая, красивая, исполненная холодной добродетели героиня, вся в белом бархате и лебяжьем пуху, чуть не разбила сердце героя своим невозмутимым равнодушием, а затем, внезапно оттаяв, бросилась в его объятия. Но сюжет все же был не столь незатейливым, ведь в нем фигурировал коварный полковник.
– О! Мне просто ненавистен этот полковник! – то и дело вырывалось у миссис Брэби. Она произносила «пол-ков-ник», по слогам, и это так поразило Лору, что та наконец осмелилась спросить:
– Но разве надо говорить «пол-ков-ник», а не «полковник», миссис Брэби?
И тут же получила урок правильного произношения:
– Пол-ков-ник; это же ясно как день. О чем ты только думаешь, дитя? Чему только учат в школе в наше время!
Миссис Брэби, явно обидевшись, несколько недель кряду не угощала Лору мятными леденцами, и девочка это заслужила, ибо не стоит поправлять старших.
Был один мужчина, который трудился на одном поле с женщинами. Это был нескладный стареющий бедняк, не отличавшийся большой силой, и его держали на половинном жалованье. Звали этого человека Элджи, он происходил не из местных, а внезапно появился в округе много лет назад и о своем прошлом никогда не упоминал. Он был высок, тощ и сутул, с водянистыми голубыми глазами и длинными рыжими бакенбардами. Порой, когда Элджи распрямлялся, можно было заметить у него последние следы военной выправки, были и другие основания предполагать, что некогда он служил в армии. Во хмелю или навеселе он, бывало, начинал фразу: «Когда я служил в гренадерском гвардейском…», но всегда осекался. Хотя на высоких нотах его голос срывался и часто сходил на визг, в нем все же можно было смутно различить произношение культурного человека, так же как в осанке – армейскую выправку. А главное, вместо того чтобы чертыхаться и браниться, как другие мужчины, Элджи, когда его удивляли, восклицал: «Клянусь Юпитером!», что страшно всех веселило, но едва ли проливало свет на его тайну.
За двадцать лет до того он во время грозы постучался в дом своей нынешней жены, которая всего лишь несколько недель как овдовела, и попросил ночлега, да так там и остался, однако никогда не получал писем и не рассказывал о своем прошлом даже супруге. Говорили, что в первые дни работы в поле нежные руки Элджи покрылись волдырями и кровоточили. Поначалу он, должно быть, возбуждал в Ларк-Райзе немалое любопытство; но оно давно угасло, и в восьмидесятых годах его считали «малосильным бедолагой», над которым можно вволю подшучивать. Элджи был молчуном и безропотно трудился, сколько хватало сил. Единственное, что выводило его из равновесия, – это редкие приезды немецкого бродячего оркестра. Заслышав духовые и громкое «пам-пам» барабана, он затыкал уши пальцами, убегал через поля куда глаза глядят, и в тот день его уже никто не видел.
В пятницу вечером, закончив работу, мужчины гурьбой являлись на ферму за жалованьем. Его вручал им из окна сам фермер, и в знак признательности они неловко расшаркивались и почтительно подносили руки ко лбам. Фермер был слишком стар и тучен, чтобы скакать верхом, и хотя он по-прежнему ежедневно объезжал свои земли в двуколке, ему приходилось держаться дорог, так что большинство своих батраков видел только в день расчета. Кроме того, если у него имелась причина для недовольства, то он высказывал его именно в пятницу вечером. Его претензия могла быть такого рода: «Эй вы! Чем вы там занимались в Кози-Спинни в прошлый понедельник, когда должны были чистить канавы?» – и на нее всегда можно было возразить: «Зов природы, сэр». Реже звучало обвинение, ответить на которое было труднее: «Я слыхал, в последнее время ты не слишком-то стараешься, Стимсон. Так не годится, ты ведь знаешь, не годится! Надо отрабатывать свои деньги, если хочешь здесь оставаться». Зато нередко звучало: «Ну, Ходок, вот тебе, дружище, новый блестящий золотой полсоверен. Смотри не истрать его сразу!» – или начинались расспросы о какой-нибудь роженице или страдающем ревматизмом старике. Фермер мог позволить себе быть обходительным и приветливым: всю неприятную работу выполнял бедный Старик Понедельник, которому он за это и платил.
Вообще же фермер был не жестокосерден и понятия не имел, что тянул из своих батраков все жилы. Разве они не получали обычное полное жалованье, без вычетов за простои в ненастье? Как им удавалось жить и содержать на такую сумму семьи – это их личное дело. В конце концов, много ли им надо, ведь к роскоши они не привычны. Сам-то он любил полакомиться сочным филеем и выпить бокал хорошего портвейна, но на беконе и фасоли лучше работается. «Хорошая печень – хороший работник», – гласила умная старая деревенская поговорка, и сельский труженик старался ей следовать. А кроме того, разве всех батраков по меньшей мере раз в год не потчевали отличным обедом на празднике в честь окончания жатвы и говядиной на Рождество, когда фермер забивал животное и оделял мясом, супом и молочными пудингами всех, кто недужил, стоило только попросить и сходить за ними.
Хозяин никогда не вмешивался в работу, пока его батраки трудились на совесть. Никогда! Сам он был убежденным консерватором, ревностным тори, и они об этом помнили, когда шли голосовать; но фермер не пытался повлиять на них во время выборов и не спрашивал потом, за кого они отдали голоса. Ему было известно, что некоторые хозяева так поступают, но, по его мнению, это была грязная, постыдная махинация. А что касается надзора за посещением церкви, то это ведь пасторская забота.
Хотя работники при любом удобном случае обманывали фермера и называли за глаза Господом Всемогущим, он был им по душе. «Неплохой старик, – говорили они, – и вносит свою лепту землей». Всю ненависть они приберегали для управляющего.
Есть что-то волнующее в дне выдачи жалованья, даже когда оно невелико и уже распланировано на самое необходимое. С золотыми кружочками в карманах мужчины шагали бодрее, и голоса их звучали радостнее, чем обычно. Вернувшись домой, они сразу отдавали полученные полсоверена женам, которые выделяли им шиллинг на карманные расходы. Таков был сельский обычай. Мужчины зарабатывали деньги, а женщины их тратили. Мужчины пребывали в более выигрышном положении. Само собой, эти полсоверена доставались им нелегко, зато трудились они на свежем воздухе, в приятной компании, работу свою любили и находили в ней интерес. Женщины, сидевшие дома взаперти, день-деньской стряпавшие, убиравшие, стиравшие и чинившие одежду, не говоря уже о постоянных беременностях и многочисленном потомстве, за которым нужно было присматривать, беспокоились и о том, как распорядиться скудными средствами к существованию.
Многие мужья похвалялись, что никогда не спрашивают своих жен, что те делают с деньгами. Пока у них хватает пищи, все худо-бедно одеты и есть крыша над головой, уверяли мужчины, они довольны; казалось, они ставили это себе в заслугу и считали себя щедрыми, благодушными, добросердечными людьми. Если жена залезала в долги или жаловалась, ей говорили: «Тебе пора научиться по одежке протягивать ножки, девочка моя». Одежку эту надо было не только умело выкроить, но использовать для нее весьма эластичную материю.
После вечернего чаепития, пока было светло, мужчины час-другой трудились в своих огородах или на наделах. Они были первоклассными огородниками и гордились тем, что выращивают самые ранние и лучшие овощи. В этом им помогали плодородная земля и обилие навоза в свинарниках; но свою роль играло и добросовестное возделывание. Секрет успеха, по их мнению, заключался в постоянном окучивании почвы возле корней растений, для каковой цели использовалась тяпка. Это занятие именовалось «цапанием». «Поцапаем старую матушку-землю, чтобы понесла!» – кричали друг другу через заборы или приветствовали деловито проходящего мимо соседа словами: «Поцапать пошел, Джек?»



