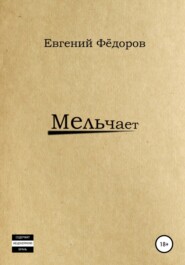скачать книгу бесплатно
– Думаю, нет.
– Честно, – одобрительно улыбнулась Рита.
– Честно. Хотя честность – это ваша профессиональная необходимость, остальным незазорно иногда и приврать, – я подмигнул ей. Она хихикнула и обняла губами бокал.
На столе появился кальян, окружённый тарелками пивных закусок. В баре зазвучала затёртая до нестерпимой пошлости песня группы Nirvana, и Рита прозвенела:
– О! Я знаю эту песню! У меня отец её любит.
Меня больно окатило тоской.
– Да, крутой трек, – с удовольствием заёрзал Артём, – жалко только, что тихо звучит.
– Это потому что песня очень старая, – попытался пошутить я, но, не встретив понимания, решил больше этого не делать.
После третьего пива я макал в мёд сырные шарики и, ощущая в ладони каменный топор вместо бокала, наблюдал за спором трёх фонтанирующих будущностей, обсуждавших что-то на малопонятном языке завтрашней (или, что вернее, послезавтрашней) действительности.
Рита пьянела быстрее всех. Она кокетничала с сокурсниками, пуская в ход игривые телодвижения и знойные взгляды, в мучительных попытках определиться, кому из двоих отдать предпочтение. Думаю, чуть позже приз получили оба. Возможно, даже одновременно.
Прикинув стоимость стола, я добавил пару тысяч и оставил деньги на столе под поэтичные поздравления с днем моего появления в сырой, наспех кем-то сотворённый мир.
После прикосновения к чужой юности хотелось чего-то более ясного и предельно родного. Иными словами, такого же настоящего и затхлого, как я. И я набрал Кешин номер.
На улице солнце дарило петербуржцам дискомфорт. Пахло крадущейся бесснежной зимой.
Во времена нашей с Кешей совместной работы, выбираясь на обед, мы часто заглядывали в небольшое заведение социалистического антуража, в трёх минутах от офиса. К советскому меню там прилагалась советская же санитария и аналогичное обхождение (которое, впрочем, служило всего лишь частью антуража), но нам нравилось пить пиво из пузатых кружек под портретами мёртвых партийцев различного пошиба – выходя оттуда, мы словно покидали авторитарную юдоль, возвращаясь к жизни свободных граждан, вольных делать и говорить что вздумается. Хотя в последние годы этот контраст становился всё менее явным.
Я взял «Жигулёвского» сразу на двоих и выбрал столик под брезгливым взглядом чёрно-белого Андропова, располагавшегося уместнее и удобнее прочих – рядом с туалетом.
Сухотощий Кеша ворвался в бар, как в драку. Он всегда входил в помещение так, словно по ту сторону двери ему только что грубо отказали. Выискивая меня глазами, он напоминал ковбоя, ищущего, кому в этом салуне непременно должно всадить пулю. Я помахал ему рукой, и Кеша преобразился в добряка с растерянным лицом ёжика в тумане.
– Привет алкашам! – поприветствовал он меня, расплывшись в предвкушающей халяву улыбке.
– Привет! Это я – алкаш?
– Ну конечно! Перед самолётом – квасишь. И не успел приземлиться – уже в кабаке.
Я действительно не подумал о том, что с нашей последней встречи не прошло и двух суток, за которые я успел окончательно похоронить самую многокрасочную часть прошлой жизни и вернуться в прежнюю, красок в которой по-прежнему было не больше, чем смысла.
– Девушка! – в нетерпении подпрыгнул Кеша.
Когда ему случалось пить за чужой счёт, он всякий раз доставлялся домой собутыльниками. К этому я был готов.
– Слушаю вас? – обнажила кариес пожилая официантка.
– Да! – торжественно собрался с мыслями Кеша и затыкал пальцами в меню. – Это, вот это, ноль пять этого и ещё вот это! Мда… – он хмуро помедлил. – И салатик. Есть оливье?
– «Столичный», – кивнула женщина.
– Да не «Столичный»! Оливье – есть?
– Это и есть оливье, у нас он – «Столичный».
– Несите скорее! – распорядился Кеша, схватил пиво и сделал советский глоток в треть кружки.
Я дополнил заказ аперитивом, и вскоре на столе возникли два алых шота, водка, селёдка и «Столичный».
– Ну что, по «Боярскому»? – предложил я.
Кеша воодушевился:
– С козырей ходишь, чертяка!
И в следующую секунду томным, исподлобья, взглядом он окинул входящие в бар голые ноги, полноватые, в высоких сапогах на тонком каблуке.
– Последние в этом году, наверное, – мечтательно протянул он и грустно заглотнул «Боярского». – Видал, какая? Жопа что надо. У баб с толстыми задницами душа тонкая.
Любвеобильный Иннокентий регулярно создавал себе проблемы с чужими жёнами, но всякий разговор с ним оборачивался лекцией о несостоятельности женщин. Сегодняшний вечер, само собой, исключением не стал.
– Тебе, психологу, не понять, а я в бабах толк знаю, у каждой вот тут ценник нарисован, – и он убедительно ткнул себя в лоб. – Сейчас вот буквально, когда сюда шёл, двух кралей видел. Идут по «рубину», всё вокруг фоткают, селфи губастые делают. А я слышу: говорок – южный. Подхожу, говорю: «Девчонки, вы откуда?» А они так гордо: «Мы – ма-а-асквички!» Москвички, бля. Саратовские.
Я заинтересованно морщил лицо и кивал в тарелку.
– Запомни, чувак. Вот ты почти до лысины дожил, а так и не понял: всё зло – от баб.
– Вообще-то, – жуя салат, напомнил я, – из нас двоих ни разу не был женат – не ты.
– Так это потому, что баб ни хрена не понимаешь! А я тебе скажу: они слабохарактерные все. Чего лыбишься? Я вот к какой-нибудь схожу… ну, это… к массажистке какой, когда спину прихватит… Так мне моя знаешь что устраивает! А сама?!
– А сама? – эхом отозвался я.
– Да она ночью даже перед холодильником устоять не может! А у меня тут горячая баба!
Кеша, не чокаясь, заглотнул второй шот, фирменно булькнул пищеводом и полез вилкой в селёдку. Изысканности в нём было не больше, чем такта. Я налил себе водки.
– Это ведь только кажется, старый, что мужики охотятся на баб. На самом деле всё наоборот, – сквозь селёдку продолжал Кеша.
Он громко закашлялся, и я принялся барабанить по его тощей спине. Кеша прокряхтелся и влажными глазами зло апеллировал к официантке, которая уже устремилась на кашляющий зов.
– Что-то случилось?!
– Да… – Его голосу словно сломали хребет. – Можно поговорить с криворукой обезьяной, которая у вас закуски готовит?
– Вам что-то попалось? – женщина переметнула молящий взгляд с Кеши на селёдку.
– Кость! – рявкнул прорезавшимся рыком Кеша. – Огромная, мать вашу, кость! Вы засунули кость от акулы в селёдку!
Извиняясь на все лады, официантка схватила тарелку со стола и, спотыкаясь, засеменила на кухню.
– Чё, реально кость? – полюбопытствовал я и потыкал вилкой в филе.
Кеша улыбнулся кончиком рта и подмигнул:
– Нормально всё. Сейчас пивас халявный принесут.
С чувством восстановленной справедливости, но с видом по-прежнему уязвлённого достоинства Иннокентий отпил извинительного «Жигулёвского» и проговорил словно мимовольно:
– Как слетал-то?
Я не ответил на его испытующий взгляд, ставший вдруг серьёзным и даже как-то по-дружески озабоченным.
– Нормально.
– Ясно, – удовлетворённо кивнул он. – Я был прав.
Мы помолчали и выпили.
– Напейся сегодня, старый. И завтра. Не сразу, но поможет.
В голосе Кеши прозвучала забота. Однако именно он через час был пьян до последней возможности, что означало безоговорочную готовность эту самую заботу принимать.
– Радуйся, что хоть такое детство было, – продолжал он. – Мой дед вообще мне говорил: «В городе тебя плохому научат». А на вопрос «А тут – что?» отвечал: «А тут ты хотя бы бухаешь». Чёрт его поймёт, что за логика была. Но результат, как видишь, налицо.
Он выпил стопку и сморщился, не закусив.
– И на лице, – заметил я.
– Серьёзно, – подавил нетерпеливый вздох Кеша, – хреново, конечно, что ты так детство похоронил – не слушал меня, дурила! А я вообще знаешь каким ребёнком был? У меня же дистрофия! Я с собой в портфеле кирпич носил – меня без него лифт поднимать отказывался!
Когда мы вышли из бара, вечер уже обнимал город. Я прикурил и выпустил облако дыма и пара в низкое, прячущее звёзды, небо.
– Поехали на массаж? – прожевал Иннокентий, обозначив вопросительный знак кряком икоты, отразившимся где-то во дворах ленинградского рок-клуба.
Вместо ответа я вызвал такси и отвёз жаждущее массажа тело домой.
Кеша жил в двадцати пеших минутах, на Некрасова, в центре, и, старый купчиноид, я не торопился возвращаться в спальную коробку. Тем более время было ещё совсем не позднее. Я вышел на Невский.
Мне захотелось общества. Непременно женского, и сию же минуту. Через полчаса передо мной выстроились в ряд блёкловзглядые жрицы. Парочка темнокожих, столько же – под сорок и одна со свежим, однако с дерзким вызовом, личиком – очевидно, новенькая – в очках. Я проговорил в сторону мамочки:
– Вот эту, умную.
Благодарность в усталых близоруких глазах дала миру шанс. Думаю, это всё моя проклятая дружелюбная наружность.
Кеша, считавший себя знатоком женской природы, часто говорил: «Женщина, братан, беспрерывно должна чувствовать, что ты в любой момент можешь от неё уйти. Именно чувствовать, а не знать. Такого знания она тебе не простит. А чувство неуверенности в том, что ты всегда будешь с ней и при ней, заставит её быть адекватной. Иначе бабе укорот не дать». В отличие от Кеши, я не мыслил его специалистом в женском вопросе, но он казался неплохим тактиком, когда затаскивал в койку очередной предмет своих исследований. Стратегическая же жилка отсутствовала в нём напрочь, если не считать женитьбы, сомнительной (во всяком случае, в его варианте) регалии. Автор афоризма «Люби мудрых баб, не ведись на умных – они тупые», Кеша женился на барышне не самого большого ума, чем ввёл в замешательство всех, кто был в курсе его философии.
Сегодняшняя студентка в розовых кедах вернула меня в первокурсную пору, где, как в Солнечной системе, кружилась и горела Настя, занимая центральную позицию и главенствуя безраздельно над остальной хладостью моего мира. Она не была похожа на пустышек, припудривавших нежностью румян грубость неразвитого интеллекта, как и высоколобая гордость очкастых дипломниц разбивалась о гладкость её черт, чистых и свежих.
Хоть и всковырнула девочка Рита старый нарыв, всё же в Солнечной системе моей юности ей было бы уготовано место разве что случайной кометы. С пышным, правда, хвостом.
Ныне же Солнце остыло. Космический мусор, мрак и пустота заполнили вакуум. И мелким стало всё в этой невидимости. Нестерпимо мелким.
Схимник. Фрагмент пятый
– Учитель, в чём состоит разница между умом и мудростью, которые ты так явственно разделяешь?
– Тут, сынок, всё решительно просто, – мягко произнёс схимник. – Во младости лет часто в единый узел они сплетаются. Однако различны они. Ум человеческий со злом соединим, мудрость же добрыми питается помыслами и потому до ума никак не касается. Живут в тебе душа человеческая и дух Божий. Мудрость есть свойство духа, а не души, она – от Бога.
– Значит, ум – от дьявола?
– Случается часто, что и не от диавола. Но вот что мудрости от лукавого не бывает – это верное дело. Потому как глуп он.
Юноша недоверчиво покосился на старика.
– Очень глуп, – твёрдо повторил схимник. – Диавол как есть обалдуй. Над ним праведнику насмехаться только. Однако же глуп он не в дележе «ум—глупость», а в разложении «мудрость—глупость». Глупость – она уж мучительно и без меры многообразная встречается. Да только в том мы, люди, промах допустили, что ум высший и ум низший именовать мудростью и интеллектом сподобились, а скупость ума в головах, а значит, и в словах наших, так доселе просто глупостью и нарекается. Однако ведь и в ней тоже, в глупости-то, сущность не одна, разная она бывает.
Старик помолчал. На светлом лице его проскользнула печаль.
– Про глупость я понял, – осторожно вкрался ученик. – Но в чём всё-таки разница между умом и мудростью?
– Человек умный, – словно очнувшись от сна, продолжил схимник, – он книг прочёл множество, остроту ума своего развил – интеллект, значит. И потому собеседник он дивный, занимательными беседы с ним выходят. Толкования вопросов разноречивых в нём тягаются. Но в том ум лишь один, схватка доводов, и только. И в доводах тех умный человек суть вещей углядывает, потому на споры да прения он скор и ухватист.
– А с мудростью что, разве не так?
– Мудрый по-иному в бытие глядит, особенным, таинственным опытом связи житейские постигает. Спокойствие от него – что тепло от солнышка. Наперёд знает он, что за чем воспоследует – в дальновидном направлении. Потому с мудрым спор не сладится, знает он, что в распре любой смысла – что огня в золе. А образования-то, может, в человеке таком насилу на букварь и наберётся. Да ангелы в нём взамен того дремлют тихонько. Вот сам и посуди, возможно ли от диавола мудрости ожидать, коли не ведает он связи простейшей: что как тварь божья ни в веке сем, ни в будущем не возьмёт он верха над Создателем своим? От него, быть может, ум-то до человека иной раз и исходит, да только от Бога, окромя ума, ещё и мудрость проистекает. И потому диавола Он сильнее.
3. Некобейн
– Молодой человек! Скажите, вы верите в бога?
Передо мной стоял человек примерно моих лет, с маленьким буклетом в руках и глазами, утопающими в доброте лица.
– В какого?
Человек замер и растерянно улыбнулся.
– В какого бога-то? – повторил я.
– Ну, в того самого… – слова его споткнулись, глаза забегали. – Единого… Создателя небес и тверди…
– Ох, незадача, – сокрушённо перебил я, – как раз в этого-то – и не верю.
Учтиво поклонившись, я двинулся дальше, оставив сбитого с толку человека глуповато озираться.
Это был Невский проспект. Как и всякое легендарное место, от других он не отличался, кроме названия, решительно ничем. На углу с Думской, у подземного перехода кучковались вокруг уличного музыканта немногочисленные зрители и слушатели. Первых было больше. Цыгановидный исполнитель с кудрявой головой вдохновенно перебирал хиты, силясь угадать, кто или, вернее, что именно притянет в лежащий на асфальте гитарный чехол больше купюр – Цой, Бутусов или Чиж. Я притормозил. Кольнуло самое дно сердца – я узнал его.
Дождавшись финального завывания, сопроводившего смерть звезды по имени Солнце, я встал перед гитаристом и заглянул в помятое лицо под кудрями:
– Привет, Йодо!