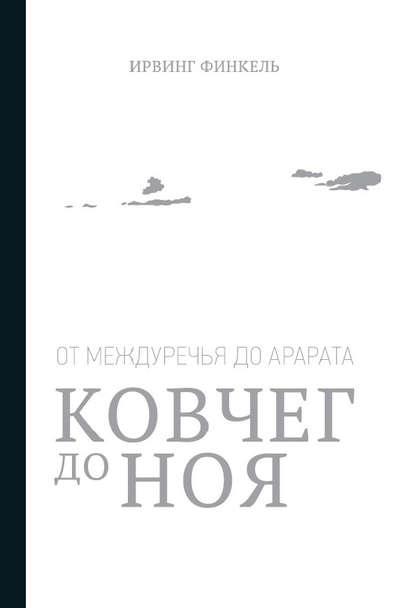
Полная версия:
Ковчег до Ноя: от Междуречья до Арарата
2. Клин между нами
Я вам составлю клинописью счет от прачки за рубахи
И опишу во всех деталях доспехи, бывшие на Каратаке [6].
Во всем, короче, что касается растений, животных и камней,
Я – образцовый генерал-майор, и даже поумней.
У. Ш. Гилберт[7]Древние вавилоняне верили в Судьбу. Я думаю, что именно вмешательство Судьбы сделало меня ассириологом – во всяком случае, к написанию этой книги она точно приложила свою руку. В девятилетнем возрасте я уже знал, что хочу работать в Британском музее. Такое честолюбивое решение, возможно, возникло под влиянием странного воспитания – в галереях музея в квартале Блумсбери я проводил целые дни вместе с четырьмя своими братьями и сестрами (причем не только в дождливую погоду), и не было там ни одной застекленной витрины с экспонатами, о которую бы ни разу не расплющился мой любопытный нос. Тогда же мной овладел интерес ко всяческим древним и «трудным» письменам, и я долго колебался – посвятить ли себя древнекитайским или древнеегипетским иероглифам.
Когда в 1969 году я вошел в здание Бирмингемского университета, гордо держа под мышкой гардинеровскую «Грамматику древнеегипетского языка», Судьба первый раз явным образом вмешалась в мою жизнь. Египтологию там преподавал Т. Рандл Кларк; этот степенный округлый профессор, эксцентричный, как персонаж из кинофильма, успел прочесть лишь одну вводную лекцию и скоропостижно скончался, оставив без египтологии все свое отделение, едва-едва наполнившееся гамом только что зачисленных студентов. Обеспокоенный этим декан, проф. Ф. Дж. Тритш, попросил меня зайти к нему в кабинет, чтобы предупредить: на поиски нового преподавателя иероглифов уйдут многие месяцы, и поскольку меня интересуют все эти вещи, не спуститься ли мне пока вниз, позаниматься клинописью с проф. Лэмбертом? Все знали, что Лэмберт, как правило, не снисходит до занятий с новичками, но в создавшихся обстоятельствах, поразмыслив, он решил меня взять. Через пару дней я и три юные леди стояли полные ожиданий перед дверью, за которой начиналась клинопись. Вот таким вполне случайным образом я стал учеником ассириолога Вилфреда Джорджа Лэмберта, совершенно еще не зная о том, что это великий ученый, и не представляя, сколько непокоренных вершин высится впереди. Мне только что исполнилось восемнадцать [9].
Наш новый профессор, наскоро пробормотав «доброе утро» и даже не поинтересовавшись у нас четверых, как кого зовут, повернулся к доске и написал три вавилонских слова: iprus, niptarrasu, purussu, Затем он спросил нас, увидели ли мы в них что-нибудь особенное. Когда-то в средних классах я немного занимался древнееврейским, поэтому я сразу увидел в этих словах общий корень из трех согласных p, r и s, о чем и сообщил профессору. Он слегка кивнул, после чего мне и каждой из юных леди был выдан листок с клинописными знаками, которые нам надо было «выучить к понедельнику». Вот так это и произошло, благодаря Судьбе. В тот момент, когда мы начали читать наши первые слова, написанные клинописью, – «Если человек…» из Кодекса царя Хаммурапи, – я понял, что становлюсь ассириологом навсегда. Такие моменты меняют жизнь. Никто в аудитории не заметил, что во мне совершается этот переворот. Лэмберт вскоре показал себя суровым преподавателем, не делающим скидок, к тому же склонным к желчной иронии. Каждый ученик должен был втайне принести клятву верности; наши юные леди, не прошедшие этого посвящения, потихоньку удалились одна за другой, и я надолго остался один на один с тем, что было, осмелюсь сказать, моим предназначением.
Клинопись! Самая древняя и самая сложная в мире письменность, намного древнее любого алфавита; давно исчезнувшие шумеры и вавилоняне пользовались ею в течение более чем трех тысяч лет, и лишь при начале римской эпохи кончилось ее время, как у всякого динозавра. Какие трудности, какие приключения ожидают меня!
Проводить день за днем долгие часы над пыльными табличками древних месопотамских царей – наверное, это должно было казаться странным занятием, всего в одной или двух милях от развлечений бирмингемского Bull Ring и в окружении намного более полезных факультетов, например французского языка или машиностроения; но мне это занятие никогда не казалось странным. Мертвый язык, если он расшифрован, можно изучать в классе по учебнику грамматики как любой другой язык: я иду, ты идешь, он идет – эти формы есть не только в латыни, древнегреческом или древнееврейском, они есть также и в шумерском и в аккадском языках.
Перед обучающимся клинописи, как я вскоре понял, встает не одна, а целых две труднейшие проблемы: надо учить знаки и учиться языкам. В обычной жизни идея отделять язык от письменности противоречит нашей интуиции – ни говорящий, ни пишущий никогда не отделяют одно от другого; но на самом деле язык и его письменность так же различаются, как тело и одежда. Например, мы знаем из истории, что древнееврейский язык часто пользовался арабским письмом, арамейский случалось записывать китайскими иероглифами и т. д.; при необходимости можно и санскрит записывать руническим письмом. Изучать еще один мертвый язык, использовавший еще одну мертвую письменность, – кто-нибудь скажет, что лучше два раза утопиться. Но клинопись – это во много раз сложнее. Клинописная письменность использовалась в основном двумя мертвыми языками – шумерским и аккадским, и пока вы не прочли несколько слов на табличке, вы даже не можете определить, на каком языке она написана. Шумерский язык, старейший из двух, не имеет ни одного известного родственника. Аккадский, с его северным (ассирийским) и южным (вавилонским) диалектами, принадлежит группе семитских языков и поэтому соотносится с еврейским, арамейским и арабским примерно так же, как латынь с итальянским, французским и испанским. В древней Месопотамии шумерский и аккадский языки сосуществовали, так что достаточно образованный писец должен был уметь писать на обоих – этого правила строго придерживались на занятиях Лэмберта.
Но шумерский и аккадский – действительно два различных языка. Аккадскому языку свойственны красноречие и смысловая сложность, аккадская фраза может быть юмористической, иронической, сатирической, даже двусмысленной – совершенно как по-английски. Словарный запас был тоже весьма широк во всех отношениях: составители фантастически полного и очень дорогого Чикагского аккадского словаря[8] (название может многих сбить с толку), лишь недавно завершенного и занимающего полтора метра на книжной полке, постарались включить в него перевод на американский английский всех известных слов аккадского языка. В 1969 году, однако, когда я начал его изучать, почти все доступные словари и руководства имелись только по-немецки, как, например, серый и однообразный Akkadisches Handworterbuch, набранный мелким шрифтом в две колонки, сравнительно недорогой и при этом совершенно тогда необходимый. Попав от него в зависимость, я подчас лучше помнил, что означает данное аккадское слово по-немецки, чем его немецкий аналог по-английски. Университетские приятели с исторического или физического факультета казались мне выбравшими непыльную работенку, и я с плохо скрываемым удовлетворением смотрел, как даже мой друг Эндрю Сазерленд, получивший по немецкому языку высшую оценку с отличием, оказался неспособен объяснить мне смысл какого-то «полезного пояснения» в маленькой книжке по шумерской грамматике Адама Фалькенштейна, скромно названной Das Sumensche.
Лэмберт требовал в классе точности Шерлока Холмса; любая попытка студента скрыть свое незнание или дать приблизительный перевод тут же выводилась на чистую воду. Списывать и пользоваться шпаргалками строго запрещалось; на столе лежал только текст оригинала, его надо было прочесть в полный голос, дать точный перевод и проанализировать грамматические формы. Укрыться от этого не представлялось никакой возможности. Это была настоящая школа ассириологии – не такая, как, скажем, в Оксфорде, где, похоже, даже преподаватель мог под столом свериться со шпаргалкой при разборе каких-нибудь надписей ассирийских царей. Как мне потом рассказывал мой друг Джереми Блэк, еще одно занятие, предлагавшееся там студентам в течение первых недель обучения, состояло в транслитерации слоговыми клинописными знаками первой главы «Гордости и предубеждения»[9]. Считалось, что это сразу покажет студентам особенности клинописной системы, не дающей возможности записывать слоги со смежными согласными и не имеющей знаков для о, ф или ж. В результате выдавались такие перлы, как, скажем, tu-ru-ut u-ni-we-er-sa-al-li ak-nu-le-eg-ge-ed (т. е. truth universally acknowledged). Лэмберт не интересовался подобными детскими играми; мы не пробовали писать по-шумерски палочками от леденцов по пластилину. Мы просто учили один за другим все клинописные знаки, вот и все. Через много лет, начиная экспериментальный вечерний класс по изучению клинописи в Британском музее, я написал на доске клинописными знаками:
a-a a-am tu-u bi-i ma-ar-ri-id tu-ma-ar-ru
(т. е. I am to be married tomorrow), что было чистой правдой, я действительно собирался завтра жениться и в этот вечер хотел уйти пораньше. В аудитории возникло большое оживление, которое только усиливалось с каждым очередным расшифрованным студентами знаком, пока они, наконец, не смогли прочесть всю фразу. Я с радостью должен вам заявить, что через год при начале аналогичного курса мне пришлось изобразить клинописью совершенно другую фразу.
Клинописные знаки, которые я представляю себе как драгоценные камни в золотой чаше, исполненные явного и тонкого смысла, никогда не были для меня чем-то далеким и чуждым; я постоянно пользуюсь ими. День, когда Джон Рафл, сотрудник Городского музея в Бирмингеме, подарил мне чудесную и тогда уже совершенно недоступную книгу Рене Лабата Manuel d’Epigraphie Akkadienne («Руководство по аккадской эпиграфике»), был для меня красным днем в календаре. Клинописные знаки за три тысячелетия заполняют ее страницы разворот за разворотом, четко прорисованные черными чернилами, так что вам остается только запоминать их. Это единственная книга в моей жизни, которая растрепалась от постоянного употребления.
Приступая к изучению древнейшей в мире письменности, вы неизбежно начинаете задавать себе вопросы – что такое письменность вообще, как она пришла в мир более чем пять тысяч лет назад, и на что был бы похож этот мир, если бы ее не было. Письменность, как я бы ее определил, служит для записи фраз языка с помощью согласованного между его носителями набора символов таким образом, что эти фразы могут затем быть «проиграны снова», наподобие звукозаписи на восковом цилиндре; взгляд читателя переходит от знака к следующему, и его мозг восстанавливает звучание каждого, оживляя до этого безжизненную запись.
Насколько нам известно по археологическим данным, письменность первоначально появилась в древней Месопотамии. Самое важное тут не время ее появления (примерно около 3500 лет до Р. Х.) и не многочисленные опыты и эксперименты, предшествовавшие этому появлению, а тот прозаический факт, что человечество получило дар письма из рук тогдашних служащих налогового ведомства. Побудительная причина состояла отнюдь не в желании записывать стихи или составлять исторические хроники, но в будничных заботах бухгалтера. Хотя нам неизвестно, что было «в самом начале», но все самые древние дошедшие до нас тексты касаются деятельности больших канцелярий и содержат точные записи о товарах и ценах, именах и количествах.
И предпочтительным материалом для всего этого делопроизводства с самого начала была глина. На первый взгляд – странный выбор; ведь рядом для других целей использовались дерево, пергамент, шкуры животных и выделанная кожа, наконец черепки из той же глины… Все эти материалы, однако, удобны для писания по ним чернилами, т. е. для совершенно другого процесса. Прибрежная глина была неисчерпаемым ресурсом; писцы всегда знали, где добыть глину самого лучшего качества, требующую минимальной подготовки, – не отсюда ли пошло выражение laughing all the way to the bank[10]? – так что суть написанного оказывалась в тесной связи с качеством использованной для этого глины. Надо отметить, что древние жители Месопотамии знали глину как никто другой. Этот материал придает письму глубину и рельеф; возможно, что опытные писцы пользовались в работе одновременно и правой и левой рукой. И то, что они записали, может сохраняться в земле целую вечность. Древние записи на материалах органического происхождения, как правило, со временем истлевают; так что мы должны быть вдвойне благодарны месопотамским писцам, что они с самого начала выбрали для письма именно глину и не отказались от нее и в дальнейшем.
Самые ранние шумерские знаки на этих табличках (мы будем представлять их ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ) похожи на картинки, которые рисует четырехлетний ребенок: «стоять» представляется картинкой НОГА, «пиво» представляется картинкой КУВШИН. Очень многие такие знаки-картинки на первых порах использовались наипростейшим образом: каждый знак обозначал ровно то, что нарисовано. Мешок таких изобразительных знаков плюс пригоршня знаков для чисел [10] – вот и все, что нужно для ведения записей в приходно-расходной книге – даже, как ни странно, довольно сложных по смыслу записей; но бюрократический язык – это лишь весьма ограниченная часть всего языка. Покуда единственная цель состояла в подсчитывании месячной выручки, можно было на этом остановиться; но всплеск творческой энергии вызвал желание записывать любые тексты, включая поэтические и исторические, стимулируя тем самым дальнейшее развитие письменности.
Это развитие основывалось на принципе, который можно назвать революционным: знак, изображающий и обозначающий некоторый объект, используется затем для обозначения звуков, составляющих название этого объекта, без сохранения какой-либо связи с первоначальным значением. Например, ячмень с самых ранних пор обозначался знаком ЯЧМЕННЫЙ КОЛОС. Слово «ячмень» по-шумерски произносилось как слог še (ше). Указанный принцип давал теперь возможность использовать знак ЯЧМЕННЫЙ КОЛОС как для обозначения ячменя, так и в качестве слога ше в составе другого слова, по смыслу никак не связанного с ячменем, как если бы мы начали таким образом выписывать русское слово шея[11]. Идея о том, что графический знак может обозначать не предмет, а звук, произвела Большой Скачок: теперь стало возможным записывать абсолютно все что угодно. Была создана полная система знаков, достаточная для записи слов, их грамматических форм, живой речи, и в конечном счете всей чрезвычайно тонкой и сложной нарративной литературы на шумерском и на аккадском, а также на других языках древнего Ближнего Востока.
Даже сегодня мы сталкиваемся с трудностями, когда надо договориться о новом символе, в котором ранее не было нужды, или изобразить нечто неизобразимое. Никто кроме Льюиса Кэрролла не задавался целью изобразить «оно», между тем слово оно нам необходимо. Решение находили в том, чтобы нагрузить новым смыслом какой-нибудь уже имеющийся, но мало используемый знак, в дополнение к его первоначальному смыслу. Например, шумерский знак КУВШИН первоначально обозначал «пиво» (произносится kaš, каш) и других значений не имел. Его «нагрузили» вторым значением, никак с первым не связанным, – «оно» (bi, би). Теперь КУВШИН обозначал и kaš, т. е. «пиво», и bi, т. е. «оно».
Шумерский знак KA изображает голову человека с подчеркнуто выпяченными губами, что обозначает «рот». Тот же знак может использоваться для записи слов DUG4 («говорить»), ZÚ («зуб»), KIR4 («нос»), INIM («слово»), причем как значение, так и произношение приходится определять из контекста. Внутрь этого знака KA может быть вставлен как в рамочку другой знак поменьше, который изменит как смысл, так и произношение внешнего знака. Таким именно образом при вставлении значка NINDA («еда») в знак KA образуется новый знак GU7 («есть»), а при вставлении значка A («вода») получается знак NAG («пить»):

До начала третьего тысячелетия до Р. Х. самый ранний способ письма состоял в прочерчивании знаков заостренным инструментом по плотной не вполне высохшей глиняной поверхности, примерно как сейчас мы рисуем карандашом по бумаге. Эти знаки были довольно реалистичны и зачастую закруглены; но постепенно они упрощались, превращаясь в набор прямых штрихов, которые отображались на глиняной поверхности при помощи инструмента, напоминающего японскую палочку для еды и сделанного из особым образом обрезанного тростника. Кроме того, изменилась ориентация знаков, а их использование и смысловая нагрузка постоянно расширялись. Изменившееся таким образом письмо, состоящее из последовательности отдельных выдавленных в глине клинообразных штрихов, – это и есть клинопись в собственном смысле слова. Таким образом, писать клинописью – скорее печатать, чем писать. Характерный вид клинописной таблички определяется именно тем, что знаки создаются инструментом с треугольной гранью на конце, а не острием карандаша; именно это побудило первых исследователей клинописи в XIX веке назвать обнаруженную ими письменность cuneiform, от латинского слова cuneus, клин. Каждый клин, выдавленный таким инструментом с треугольным кончиком, имеет как бы «головку», расширенную часть, которая у вертикального клина расположена сверху, а у горизонтального – слева; используются также клинья, расположенные диагонально и выдавливаемые углом инструмента [11]. Возможно, к такому результату пришли случайно, в процессе постепенной замены всех криволинейных графических элементов прямолинейными. Глаз зрителя отмечает головку каждого такого треугольного штриха, выглядящего всегда как удлиненный клин. Грубо говоря, есть три основных вида штрихов: вертикальный, горизонтальный и диагональный; кроме того, применяются штрихи, отклоненные вверх или вниз от горизонтального, – их можно считать модификациями горизонтального. Любой клинописный знак составлен из клиньев этих пяти видов. Каждый отдельный штрих может быть выдавлен минимальным движением кисти руки между западным и северным направлением.

Левой рукой писать клинописью абсолютно невозможно, и если какой-либо кандидат в писцы – о ужас! – оказывался от природы левшой, то эту его особенность старались из него выбить, как в древности, так зачастую и в позднейшей истории человечества[12]. Что левой рукой писать невозможно – я хорошо знаю по собственной практике, из бесчисленных музейных курсов и кружков для школьников, которым для работы предлагались палочки от леденцов и пластилин. Дети, в отличие от своих родителей и воспитателей, всегда за считанные минуты справляются с первоначальными трудностями и горят желанием приступить к делу; но каждый раз примерно 70 процентов из них оказываются левшами. Я каждый раз говорю им – надо делать это правой рукой; в ответ всегда слышу – я не умею писать правой рукой. Правильное возражение – откуда ты знаешь, что не можешь писать клинописью правой рукой, если до сих пор ты никогда не пробовал писать клинописью?
«Хороший писец, – говорили шумеры, – может следовать за ртом». Неясно, означают ли эти слова способность писать под диктовку или просто аккуратность в письме. Одни клинописные знаки состоят лишь из немногих клиньев, другие гораздо сложнее. Форма и состав каждого знака, а также порядок, в котором наносились составляющие их клинья, были строго зафиксированы, и начинающим писцам надлежало трудолюбиво заучивать все эти правила, подобно тому как сегодня учатся писать китайскими иероглифами.
Мне иногда представляется, что на самом деле нет никаких «клинописных знаков», а есть только углубления на поверхности глины; в глубине каждого из них образуется тень, благодаря которой глаз может отделить его от соседних углублений. Муравей, путешествующий по поверхности клинописной таблички, обнаружит минное поле, испещренное длинными веретенообразными оврагами.
К несчастью для юных учеников, чем более каждый знак стилизовался, превращаясь в комбинацию клинобразных штрихов, тем меньше оставалось в нем от первоначальной «реалистичной» изобразительности; так что после трех тысячелетий повседневного употребления вряд ли хоть в одном из них можно было увидеть его «первоначальный» графический смысл, который бы помог в его запоминании. Одним наглядным исключением может служить знак ЯЧМЕННЫЙ-КОЛОС, изобразительность которого сохранилась даже на табличках I века по Р. Х.
Свод законов царя Хаммурапи мог бы быть записан по памяти студентами-первокурсниками через 3750 лет после его составления. Этот текст имеет повторяющуюся структуру, каждое редкое и странное слово появляется в нем по многу раз, и вы быстро обнаруживаете, что перед вами кодифицированный продукт рационального мышления, записанный обычным языком реальными людьми. Эти люди и сегодня разговаривают с нами, хотя все они умерли чрезвычайно давно:
(§ 9) Если человек, у которого что-то пропало, обнаружил пропавшее в руках (другого) человека, и (тот) человек, в чьих руках была обнаружена пропажа, сказал: «Продавец-де мне (ее) продал, при свидетелях-де я (ее) купил», а хозяин пропажи сказал: «Я приведу свидетелей, знающих мою пропажу», (и затем) покупатель привел продавца, который продал ему (эту вещь), и свидетелей, при которых он (ее) купил, и хозяин пропажи привел свидетелей, знающих его пропажу, – то судьи их дело должны рассмотреть. Свидетели, перед которыми покупка была совершена, и свидетели, знающие пропажу, должны рассказать перед богом то, что они знают, (и тогда) продавец – вор, он должен быть убит. Хозяин пропажи может забрать свою пропажу, а покупатель может взять из дома продавца серебро, которое он отвесил.
(§ 10) Если покупатель не привел продавца, продавшего ему (эту вещь), и свидетелей, перед которыми он (ее) купил, а хозяин пропажи привел свидетелей, знающих его пропажу, (то) покупатель – вор, он должен быть убит, а хозяин пропажи может свою пропажу забрать.
(§ 11) Если хозяин пропажи не привел свидетелей, знающих его пропажу, (то) он – лжец, он возвел напраслину и должен быть убит.
(§ 12) Если продавец умер, то покупатель может взять в доме продавца сумму иска по этому делу в пятикратном размере.
Законы Хаммурапи, статьи 9-12Этот кодекс следует рассматривать как изложение на практических примерах некоторых базовых юридических принципов; вряд ли судьи цитировали его или следовали ему буквально, и маловероятно, что сторона, признанная виновной, действительно подвергалась смертной казни по приведенному здесь закону. Шедевр Хаммурапи, как и все другие попытки объяснить людям, как им надо себя вести, был высечен клинописью в камне, нарочито архаичным письмом (в сравнении с современными ему табличками обыденного назначения), чем подчеркивалась вечность как самих этих юридических установлений, так и царской династии, их установившей. Такое архаизированное письмо, кстати, идеально подходит для новичков, благодаря своей четкости, элегантности и даже в в какой-то мере поддерживаемой близости первоначальному «изобразительному» письму, чем облегчается задача его расшифровки.
После примерно трех лет постоянной напряженной работы многострадальный ученик бывает наконец вознагражден. Возникает ощущение ясности, чтение клинописи становится вашей второй натурой, и сам этот клин из пыточного орудия превращается в мост, перекинутый к нам из мира, хоть и исчезнувшего уже очень давно, но населенного близкими и понятными нам людьми. Я бы пошел еще дальше и рекомендовал бы занятия клинописью в качестве жизненного пути, в особенности если помнить о некоторых ее замечательных свойствах. Одно из них состоит в том, что практически любой клинописный знак имеет до четырех различных способов использования:
• как логограмма, представляющая целое шумерское слово, один знак на слово, например kaš – пиво, lugal – царь;
• как силлабограмма, представляющая один слог (например, BA или UG), обычно являющийся частью какого-то слова;
• как фонетический комплемент, помещаемый после (а иногда внутри) других знаков для уточнения их произношения;
• как детерминатив, помещаемый до или после других знаков для уточнения их смысла, но сам никак не произносящийся (например, GIŠ – дерево, DINGIR – бог).
Например, знак AN является шумерским словом со значением «бог», и в этом качестве он произносится dingir; как силлабограмма он произносится an и обозначает слог an в составе другого слова; в качестве фонетического комплемента он выписывается после знака какого-то слова и дает ему окончание an; наконец, в качестве детерминатива он означает, что следующий за ним знак обозначает имя какого-то бога. Читатель должен выбирать нужное употребление каждого знака в зависимости от контекста, в котором этот знак находится.



