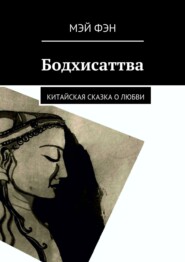скачать книгу бесплатно
– Вот эта каллиграфия мне нравится: спокойная, традиционализм автора сочетается со своим видением. Он к чему-то идет, не торопясь, продумывая каждый следующий шаг.
– Верно, это наш корифей. Он старше всех нас, решил еще пару лет провести в университете, видимо, не поступил в магистратуру. Я тебя с ним познакомлю, он, и правда, сдержанный снаружи, но щедрый душой. Может быть, ты видела его: волосы по плечи, взгляд очень осмысленный, необычный. От людей, верных искусству, всегда веет свободой и чем-то новым.
– Следующая работа. Это определенно не девушка, своенравный, своевольный, целеустремленный, умом хочет следовать традициям, но его свободная натура всячески этому препятствует.
– Это моя работа.
– Что я только что наговорила?
– Видишь, как говорил знаменитый каллиграф: в человеке отражается его каллиграфия, а в каллиграфии – сам человек, так и с произведением знаменитого пьяного каллиграфа Хуай Су, его стиль называли куан цао – «дикий цао[12 - Цао шу – скоростной письмо. Иероглифы написаны очень быстро, поэтому нередко понять, какой это иероглиф, затруднительно. Однако, с эстетической точки зрения, данный стиль каллиграфии отличается особой красотой.]». Он был монахом, жил при монастыре, пока его не отправили жарить кальмаров[13 - Уволили.]. Еще бы! Чудак осушал несколько чарок монастырского вина, закусывал мясом, а потом брался за кисть, после чего его иероглифы оставались на стенах монастыря, на стволах деревьев и на заборах.
– Тем не менее, взгляни еще разок на эту страницу, – я взяла книгу из аудитории, когда мы вышли, и до сих пор держала ее в руках. – Его каллиграфия так легка, изящна, ритмична и свободна!
– Неудивительно, что тебе нравится, – Шэнли тепло и немного снисходительно улыбнулся, – его стиль считается китайским романтизмом.
Мы шли вдоль стеллажей с работами студентов. Шэнли продолжал рассказывать мне об истории каллиграфии, о своих одногруппниках, о непонимании европейцами китайского искусства, я задавала ему вопросы, но внутри воцарилась тишина, душа замерла в удивлении. Я почувствовала горячую любовь Шэнли к этим то парящим, то ползущим куда-то иероглифам, из мальчика он неожиданно превратился во взрослого, уверенного в себе, увлеченно рассказывающего о любимом деле каллиграфа. Впоследствии я заметила, что каждый раз, когда речь заходила о каллиграфии, он преображался. Его чувства и мысли выходили из сердца, сбегали, как по сосуду, по руке вниз, перетекали в кисточку, и пропитанные тушью, наконец, появлялись на бумаге.
– Многие факторы влияют на нас. Например, я вырос среди гор, на широких просторах моей провинции. У нас совсем другие масштабы восприятия реальности: мы строим большие дома, живем хоть бедно, но размашисто, сама природа обязывает нас к этому, поэтому и я не могу мельчить с иероглифами. Они будут бросаться в глаза и пугать, но их точно не придется разглядывать с лупой. Мои иероглифы не станут мельтешить на бумаге, как надоедливое насекомое, которое так и хочется прихлопнуть. – Я рассмеялась неожиданному сравнению.
Он указывал на иероглифы своей большой, запачканной тушью ладонью с рельефно проступающими венами. Именно в этот момент, когда я увидела разводы туши на его жилистой руке, я поняла, что была бы счастлива встретиться с ним еще раз, не переставая удивляться тому, как всего за несколько минут от превратился из веселого мальчика-третьекурсника в мужчину-творца.
– Традиционная китайская живопись первоначально была «цветной», но постепенно эволюционировала до черно-белой.
– Так это считается эволюцией?! А у нас с телевидением наоборот: в начале черно-белый, а потом прогресс – цветной.
– Черный цвет вмещает в себя множество всего, разная степень черного передает разные значения.
– Согласна, китайская живопись кажется очень утонченной, гармоничной и сдержанной, не то что буйство красок на полотнах импрессионистов.
– Не посчитай меня невежей, но я совсем не разбираюсь в вашем искусстве. Я хотел поступить на факультет китайской живописи, но покупать краски для моей семьи слишком затратно, то ли дело тушь.
И тут на полях вы можете увидеть приписку, сделанную ею, вероятно, позднее, когда меня не было в замке, так как я не помню, чтобы она перечитывала когда-либо свои записи:
«Что-то есть в каллиграфии роковое и неотвратимое, это не живопись маслом, где можно сотни раз накладывать краску, замазывая свои ошибки и неудачные ляпы, так, что в скором времени картина потрескается от тяжелого слоя штукатурки. Оставив пятно на сюаньчжи[14 - Бумага для каллиграфии.], его уже не переделать, какой бы косой, неуклюжей, дрожащей линия не была. Единственный шанс спасти положение – разорвать бумагу, отрубив все пути к отступлению. Никаких исправлений. Поставили кляксу на бумаге, одну большую, больную, черную, как сама тоска – скомкаем, выбросим, забудем».
Мне этот парень сразу не понравился. Возможно, Вам показалось, что он такой спокойный, дружелюбный и увлеченный своим делом?
Да, он мне не нравился, но поделать с этим я ничего не мог, так как они постоянно случайно встречались на улице. Тогда я стал постепенно понимать, что с самой Судьбой мне не совладать.
***
Через несколько недель иностранные студенты должны были участвовать в конкурсе китайского языка, в который входила также творческая часть. Я ломала голову, думая, что бы мне выбрать: танцевать или рисовать. В поисках решения я отправилась на книжную ярмарку, проводившуюся каждые выходные под могучими французскими тополями, то и дело роняющими свои листики на книги, в одном из просторных двориков университета.
Я листала большие альбомы с картинами старых мастеров: величественные мудрые горы сменялись тихими заводями или заваленными всяким хламом пекинскими двориками. Со страниц альбома порхали птицы: фазаны, журавли, аисты; опустили головки под собственной тяжестью пышные пионы; забежала за корзинку, из которой еще совсем недавно выпали овощи, маленькая мышка. Я была так увлечена разглядыванием шедевров Ци Байши[15 - Знаменитый китайский художник и каллиграф.], что не сразу заметила, что кто-то смотрит мне через плечо.
– Шэнли, ты напугал меня!
– Привет, извини. Увлеклась китайской культурой?
– Готовлюсь к творческому конкурсу.
– Правда? А почему ты мне не позвонила? Когда у вас конкурс?
– Через две недели.
– Давай я помогу тебе подготовиться, раз уж ты, как я вижу, решила рисовать.
– Было бы чудесно, но ты и так занят, наверное.
– Время найдется. Завтра вечером ты свободна?
Я быстро соображала, когда пары у моего любимого преподавателя по литературе:
– Да, завтра могу.
– Хорошо, полседьмого я заеду за тобой. Встретимся у входа в общежитие.
– Спасибо тебе.
– Тогда до завтра, я на восток, в велоремонт, что-то с цепочкой.
– До завтра, – отозвалась я, обрадованная неожиданной помощью и изумившаяся юмору Судьбы, так часто сталкивающей меня с этим мальчиком на улочках нашего университета.
Вот-вот. И я про то же.
С того дня Шэнли стал забирать меня от общежития на своем велосипеде. Вначале я боялась, потому что у меня психологическая травма после поездок с Олесей, которая то и дело кричала, независимо от того за рулем она или на багажнике.
Это точно! Когда они с Олесей вместе ездили на велосипеде, я чуть не поседел от переживаний.
Но с ним было нисколько не страшно. Едешь, смотришь по сторонам на разглядывающих тебя китайцев, а Шэнли впереди рассказывает что-то о своей родной стране. Однажды, когда мы ехали на велосипеде, по университетскому радио заиграла популярная в то время песня. Я подхватила мелодию и начала подпевать. Шэнли признался, что ему тоже нравится эта песня, а его девушке – нет.
Веселый! Так у него есть подруга, а он приводит домой другую девушку для занятий живописью! Ей следовало уже тогда серьезно задуматься, не будь она такой легкомысленной.
Шэнли жил не в общежитии, а снимал комнатушку, чтобы ночью писать иероглифы или вырезать из камня. Комната была маленькая, а с соседями можно было переговариваться через стенку, потому что под потолком светлела дырка, то есть от соседей отделяла не стена, а просто картонное преграждение. Это была комната настоящего человека искусства. Бардак ужасный: весь пол завален работами с каллиграфией, на столе – судя по виду, вчерашние макароны, камни для резьбы, книжки по каллиграфии, тушечницы, кисточки. Маленькие размеры комнаты компенсировались двумя огромными окнами с чудесным видом на дорогу, освещенную теплым светом фонарей.
Здесь всегда пахло тушью. Я обожала этот запах и иногда просто так нюхала тушь, чтобы вспомнить его дом, и даже боялась, что когда-нибудь, не удержусь, и выпью эту черную густую жидкость. Шэнли как-то показал мне натуральную тушь: дорогую, твердую, без химических красителей. Хотел даже ее подарить, но я не взяла – слишком дорогой подарок – целых восемьдесят юаней. Отказываясь, я сказала, что боюсь, если она будет у меня, я непременно ее съем, так как очень люблю этот запах.
Хотя Шэнли, действительно, был хорошим преподавателем, не только помогал мне, но и давал частные уроки поступающим, через несколько дней, я решила, что все же буду танцевать на конкурсе. Мне очень полюбились наши вечерние уроки, и я не стала говорить своему преподавателю о том, что уже выучила танец и даже нашла костюм, уверяя его, что на конкурсе буду рисовать хризантемы.
Видите, это ключевой момент – плохие мысли завелись в ее голове. Она привязалась, дело даже не в том, что в ее гороскопе, как потом ей скажет старый китаец, «много земли, и нужно учиться отпускать». Дело в том, что на тот момент ее знаний было недостаточно. Хотя я всеми силами старался спрятать ее здесь, далеко от большого мира, за могущественной горой Тайшань, недалеко от сильной энергии Желтого моря, но где люди – там и страсти. Глупо было бы давить на нее, когда сам вложил недостаточно труда.
Со временем я заметила, что веселый мой преподаватель только с виду, и у него свои тревоги и переживания, связанные, как это чаще всего бывает в таком возрасте, с дамой сердца: «Родители ее не знают, что мы встречаемся, – как-то разоткровенничался он со мной, – если бы знали, то заставили бы нас расстаться. В Китае это обычная история. Возможно, причина в том, что мы из разных мест. Для русских это недалеко, но для китайцев это расстояние считается приличным. К тому же, она сказала, что не выйдет за меня, пока я не обзаведусь квартирой, машиной и стабильной работой. Терпеть лишения и страдать, как мы говорим „чши ку“ – „кушать горькое“, ей не по плечу. Вместе вставать на ноги и зарабатывать она не согласна».
По его расчетам, они смогли бы пожениться через семь лет, после того, как он поступит в аспирантуру, докторантуру, заработает. Его родители были простыми китайскими работягами – устраивались на работу то тут, то там, чтобы было на что жить, брат и сестра в университет не поступили, поэтому тоже работали, и все надежды семьи возлагались на Шэнли, а он решил посвятить свою жизнь каллиграфии – не самое прибыльное дело, даже в Китае. Слушая его, я отчетливо понимала, что его планы не так уж и реалистичны.
«Кроме того, моя подруга считает меня некрасивым, да и рост у меня не особо высокий. Я теперь изучаю, чем нужно питаться, чтобы подрасти». Рассуждения моего учителя и, конечно, его вредной подруги, мне казались до невозможности инфантильными.
В тот вечер я убеждала его, что у них обязательно все будет хорошо. Но, вернувшись домой, легла спать и расплакалась, стыдно сказать, от зависти. Я почувствовала себя одинокой. Они были вдвоем, строили планы, думали, как справляться с предстоящими трудностями.
***
С тех пор спокойствие, необходимое для занятий чуть ли не любым видом китайского искусства, покинуло меня, мысли роились и рассыпались, перепутываясь между собой: «На полу разбросаны листки с каллиграфией, на столе печати, маленькие ножички, куски камня, тушечница, книги по каллиграфии, одна про любовь, библейские рассказы, сигареты, зажигалка – значит курит. Интересно, когда начал? О многом так хочется спросить, не выходя при этом за рамки. А то, что он думает, это и совсем загадка. Только однажды попросил меня не уезжать из Китая. Неужели искренне?».
Шэнли просил меня остаться, потому что я не принадлежала этому университету, городу, стране, цивилизации, и неизбежно должна была вернуться к себе на родину, вопрос был лишь в том, рано или поздно это произойдет. Так, мы не владели ничем: ни прошлым, ни будущим, в нашей власти оставался только настоящий момент, убегающий, подобно песку, струящемуся меж пальцев.
Когда мы рисовали, я почти не видела его лица, только руки с кисточкой, поправляющие разводы на моих пионах. Его ладонь была большой, и казалось, что ей можно зачерпнуть луну, отражающуюся в воде реки Ихэ. Он держал кисть так уверенно и твердо, что линия едва ли могла дрогнуть, звенела натянутой струной, извивалась гремучей змеей, бежала черной рекой, также как лилась черной рекой моя тоска. «Спасайте всех, помогая перебраться на другой берег» – как написано в одном буддийском трактате. Мне не перебраться. Полные легкие черной воды. Мне казалось, что черный запах разливается по мне, от запаха становится черной кровь, черные вены, разветвляясь и крутясь, плетут свои причудливые черные узоры. Тогда же я написала свое первое стихотворение:
Черной тушью разольется
Без тебя моя печаль,
Тонкой линией несется
В ускользающую даль.
Гибкой змейкой с черной кожей
По снегам моих листов,
Темной вязью непохожей
На понятность твоих слов.
Черный, черный, снова черный,
Цвет небес, глубин, зимы,
Цвет Вселенной непокорный,
Где нет света и нет тьмы.
Я была благодарна небесам: у меня никогда не было такого друга: понимающего, внимательного. Как бисер в руках я перебирала те моменты, когда мы были вместе, дирижировали кисточками по белым листам. Его кисть была пропитана черной тушью, моя – нежно-алым цветом пышных пионов.
– Ты рано просыпаешь в воскресенье? – спросил как-то Шэнли.
– Да, я мало сплю в последнее время. Поздно ложусь и рано встаю.
– Пойдем со мной в церковь. Я заеду за тобой в полдевятого, идет?
– Я знала, что ты верующий. Видела книгу с библейскими рассказами на подоконнике. Но не догадывалась, что здесь есть церковь.
– Вот завтра и посмотришь.
– Договорились.
– Моя мама стала верить, а я вслед за ней. До шестнадцати лет я был очень слабым, постоянно болел, никто не мог нам помочь. Мама совсем было отчаялась, но однажды ей приснился сон: какой-то старец сообщил моей матери, что необходимо отвезти меня в Пекин, в главную больницу, там есть врач, который поможет мне. Мама так и сделала, во что только не начинаешь верить, когда за спиной у тебя стоит отчаяние. Мы, действительно, нашли этого врача, и он вылечил меня. Я стал поправляться на глазах, и теперь, как видишь, сильнее всех своих друзей. Моя болезнь принесла веру в наш дом. Хотя родители все же не так часто ходят в церковь.
Я ушла от него со сладкой болью, все время думая о том, что однажды придется расстаться и залатывать кем-то образовавшуюся брешь. Вряд ли есть человек, мечтающий быть заплаткой.
Вот-вот, «сладкая боль», «сказочная минута» – выражения, достойные слащавой средневековой итальянской поэзии. Не люблю ее такой. Такое ее состояние называю «пьяной восторженностью».
***
Я спускаюсь с лестницы, выхожу на крыльцо. Вот он сидит на велосипеде, опираясь одной ногой на землю. Сейчас он почувствует взгляд на своей широкой спине, обернется и улыбнется мне. Я не даосская предсказательница, но все происходит именно так.
Мы едем через узкие улочки. Кто-то стирает, кто-то сушит белье, кто-то, выставив тазик на проезжую часть, моет голову, кто-то продает кур и петухов, кто-то играет со своим малышом. По дороге, не слезая с велосипеда, покупаем на завтрак горячие баоцзы[16 - Китайские пирожки с начинкой, приготовленные на пару.]. Я не надеюсь увидеть огромный готический собор. Церковь находится в одном из частных домов. Ее сразу видно по огромному количеству велосипедов, оставленных у входа. Мы с трудом находим свободное местечко, не закрывая велосипед, ставим его возле стены и заходим в прибежище для верующих. Помещение похоже на зал филармонии бедного квартала: впереди – подобие скорее сцены, чем алтаря. В глаза бросается большой нарисованный красный крест. Прихожане сидят на стульях, расставленных рядами. Мы приходим поздно, поэтому занимаем места в конце, привлекая внимание любопытных студентов и пенсионеров, которых здесь большинство.
Сидеть рядом с ним во время мессы кажется чем-то волшебным. Иногда я опускаю глаза и смотрю на его большую ладонь, так хочется взять ее в руку. Но этого делать нельзя, мы же друзья, к тому же, в церкви полагается думать о Боге.
Вот опять! Смотреть на это не могу! Так не похоже на нее.
Вначале мы поем песни Иисусу: «Возьми меня к себе в сердце, Господь. И сам живи в моем сердце». Слова простые, но искренние, живительные. Пастор читает Библию и рассказывает о том, что близко молодым людям:
«То, что когда-то считалось ненормальным, стало нормой. Например, раньше в университете ни у кого не было бойфренда, если же он все-таки существовал, то это считалось аномалией, а теперь наоборот: ты себе никого еще не нашел – значит что-то с тобой не так. Жить вместе до свадьбы раньше казалось невообразимым, теперь – в точности наоборот. Если есть „ненормальное“ социальное явление, но все члены общества молчаливо принимают его, то оно автоматически становится нормальным. Мы не должны забывать о том, что способны влиять на этот мир, так, чтобы то, что считается нормальным, соответствовало нашим религиозным принципам. Творить добро, дарить миру свет, как это делал Иисус».
Пролистаем вперед, если Вы не возражаете?
В тот год лето пришло очень рано, дни стали невыносимо жаркими, поэтому студенты факультета каллиграфии готовились к своим выпускным выставкам по ночам, то открывая окна, надеясь на порывы ветерка, то закрывая их, спасаясь от ночных бабочек, летящих на свет. Я часто приходила в аудиторию и помогала Шэнли искать написание иероглифов в словаре, иногда сама пробовала выводить иероглифы или же разговаривала с его верующей одногруппницей о Боге.
Все чаще у меня возникало ощущение, как будто все, что происходит, кем-то подстроено, и я двигаюсь к чему-то. Завязываются определенные связи, переплетаются дороги судеб. Хотя простым смертным трудно разгадать законы Вселенной, где правда в любой момент может стать своей полной противоположностью.
Хоть одна здравая мысль среди всего этого безумия.
Летом я уезжала домой, не зная наверняка, смогу ли вернуться. Шэнли не пошел провожать меня, сославшись на то, что не переносит вокзалы и прощания. Вместо этого в день моего отъезда мы сходили на реку, шутили и дурачились, притворяясь, что не знаем и не помним о том, что через несколько часов меня не будет здесь.
«Ты обязательно вернешься и съездишь ко мне в гости», – весело уверял меня Шэнли. На прощание он подарил мне сувенир – небольшой шарик, наполненный песком. Я всегда мечтала побывать в пустыне и как-то рассказала ему об этом. Протягивая мне подарок, он сказал: «Вот небольшой кусочек пустыни для тебя». Все происходящее мы именовали дружбой, ведь у него была подруга, а между нами расстояния, разные культуры, истории, люди. Но мир полон четко выстроенных, красивых, разумных отношений и связей, которые кажутся большинству людей «совпадениями или стечением обстоятельств».
Уже из поезда, смотря на исчезающие за окном горы нашей провинции, я написала Шэнли: «Извини, что обманывала тебя. Тогда на конкурсе я не рисовала, а танцевала, и вовсе не было надобности к нему готовиться».
– Зачем же ты училась у меня?
– Не знаю, не сердись, береги себя. Сеть сейчас совсем пропадет.
***
Прошло лето, и по воле Судьбы я все-таки вернулась. Шэнли к тому времени расстался с китаянкой и тяжело переживал эту жизненную драму, ведь боль приходит скорее не от утраты человека, а от понимания того, что все планы, надежды, казавшиеся такими реальными и почти сбывшимися, тают, словно пена на поверхности воды. Расстаться предложила его ненаглядная, объяснив это тем, что он видится ей «бесперспективным».
Время бежало, лилось и переливалось, точно серая акварель преддождевых небес. Также менялись эмоции. Они, как разноцветные рыбки, неспокойно выпрыгивали из реки – то одна, то другая. То время, как воду этой самой реки, никогда нельзя было назвать застойной: переливы эмоций и чувств, мыслей, тревог и надежд.
Мы сидели на берегу реки, на деревянной мостовой, как всегда болтая ногами, едва соприкасающимися с поверхностью мутной воды, когда Шэнли положил свою ладонь, на которую я так часто смотрела в церкви, на мою руку. Как когда-то его рука крепко и уверенно сжимала кисточку для каллиграфии, так теперь держала мою ладошку.
Рок, судьба – и есть река, как бы люди не сопротивлялись ее мягкому или бурному течению, она бескомпромиссно несла их туда, где им предопределено было оказаться, как и записано в плетеной Книге Судеб.
***
Почти каждый вечер, ближе к десяти часам, мы встречались напротив южных ворот, за пределами нашего университета. До сих пор не знаю, как нам удавалось быть никем не замеченными. Ведь если бы кто-то увидел нас, это стало бы известно всем нашим друзьям, знакомым, одногруппникам, да и не нашим тоже.
Даже читать это не буду, можете тоже пролистать.
На велосипедах мы проезжали мимо улиц, которые меняли свой облик с наступлением ночи. То и дело с разных сторон доносились знакомые мелодии. Сиплые, высокие, поставленные, но по большей части непоставленные голоса из караоке сливались в причудливый хор звуков, мчавшихся по улице за нами вслед. Веселые от пива завсегдатаи ецанов – небольших кафе, располагающихся под открытом небом по обочинам дорог, обсуждали последние новости, утопая в клубах табачного дыма.
Промчавшись вдоль живых ночных городских районов, через высокие расписные ворота мы выезжали на пустынную в поздний час дорогу, ведущую к реке. Теперь можно было взяться за руки, держась за руль велосипеда только одной рукой. Днем в этом районе кипела жизнь: рикши ездили туда-сюда, развлекая туристов, модные китайские дамочки спешили на главную торговую улицу Умацы. С наступлением темноты улица становилась совсем пустой, что делало ее прекрасным местом для человека с воображением, рисующим здесь то мудрецов давних времен, то благородных вельмож и отважных всадников. По обеим сторонам дороги шептались о чем-то ивы, красные фонари, развешенные на мостах, рассматривали свои отражения в каналах и небольших искусственных водоемах. Когда мы подъезжали к реке, визуальные образы отходили на второй план, уступая дорогу звукам и запахам. Шелестели листья болотных трав у берегов, изредка из воды выпрыгивали озорные рыбки, пахло сырой землей.
Река в поздние часы выглядела мистически. Было уже холодно, но вода оставалась теплой, поэтому по поверхности, точно из колбы старого алхимика, бежал пар. Может, это духи в своих длинных платьях из легкой невесомой ткани спешили на какое-то важное собрание. Я увидела, как у фонаря, подсвечивающего мост, собралось множество маленьких веселых рыбок. Они, как бабочки, сбежались на свет. К этому времени на реке уже никого не было. Оставив велосипеды на тротуаре, мы садились на деревянный причал и говорили о всякой ерунде. Как-то Шэнли произнес:
Ты стоишь на мосту и любуешься пейзажем,
Человек, любующийся пейзажем, смотрит на тебя с крыши.