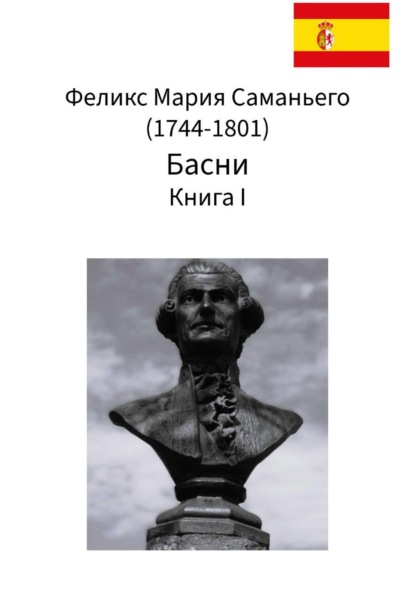
Полная версия:
Феликс Мария Саманьего. Басни. Книга I

Феликс Мария Саманьего
Феликс Мария Саманьего. Басни. Книга I
Испанский Лафонтен. Предисловие переводчика
Не думаю, что сильно погрешу против истины, назвав XVII век временем закладки новых основ: казавшаяся ещё недавно незыблемой старая картина мира ползла от кризиса к разложению, и, отказываясь от протезов религиозных догматов и костылей натурфилософии, человек рефлексирующий всё чаще обращался к систематизации эмпирического опыта, к тому времени достигшего критической массы, позволяющей осуществить переход из количества в качество. Век вспыхнул отсветом костра Джордано Бруно[1], чтобы упасть яблоком на голову Исаака Ньютона, век манил к звёздам Галилео Галилея и Джованни Кассини[2], Иоганна Кеплера[3] и Христиана Гюйгенса[4], удивлял «зверушками» Антони ван Левенгука[5]; декартово «Cogito ergo sum» находит отклик в опытах Блеза Паскаля[6], хотя волею судеб (а может быть и по прихоти биографов) два гения вынуждены быть представителями противоборствующих лагерей. Это был век первого шага науки от o[7] на Декартовой плоскости[8] до бесконечно малых Лейбница[9].
Нечто подобное происходило и в гуманитарных науках: практически каждый год открывались новые археологические артефакты почившей в бозе добрую тысячу лет назад Римской империи, что породило новый виток интереса к искусству классицизма, казалось бы, угасавшего после Возрождения: пожалуй, не найти эпохи с наибольшим количеством отсылок к античным авторам. Трагедии, комедии и фарсы на античные и околоантичные сюжеты писали все (даже предельно самобытный Мольер, заложивший, кстати, основы мирового театрального искусства как минимум на век вперёд, не избежал этой участи). Не обошли вниманием и малые формы: можно насчитать как минимум четверых крупных баснописцев Великого века: Антуан Фюретьер[10] (более известен своим произведением «Буржуазный роман»), Исаак де Бенсерад[11], Шарль Перро (более известен своими сказками) и вспыхнувший сверхъяркой звездой блистательной эпохи Жан де Лафонтен.
Влияние гениального француза на мировую литературу очень сложно переоценить, только в России можно насчитать более сорока переводчиков его басен: от Михайло Васильевича Ломоносова и Александра Петровича Сумарокова[12] до Самуила Яковлевича Маршака и Владимира Ефимовича Васильева[13] – и это далеко не полный список великих имён, вдохновлённых Лафонтеном на архиталантливые переводы; и конечно же, нельзя не отметить величайшего русского баснописца Ивана Андреевича Крылова, пересадившего Лафонтеновы сюжеты на благодатную русскую почву, придав им воистину народное звучание; так и напрашивается пример из науки, когда фраза Уильяма Гарвея[14] «Всё живое из яйца» через двести лет переродится в начала большой академической эмбриологии стараниями Карла Максимовича Бэра[15].
Однако не только на русскую литературу повлиял король французской басни; и в других странах были продолжатели традиций Жана де Лафонтена. Ныне поведаю я вам об испанском интерпретаторе творчества великого баснописца.
Феликс Мария Серафин Санчес Саманьего-и-Сабала родился 12 октября 1745 года в городке Лагуардия (провинция Алава, Страна Басков) в богатой дворянской семье. До 13 лет он обучался на дому, осваивая латынь, грамматику, читая и комментируя классиков; эти штудии определили его дальнейшую судьбу, возбудив в юноше интерес к литературе. После смерти матери Феликса в 1758 году отец отправил его учиться во Францию, в коллеж Байонны[16], место обучения большинства юношей из богатых и древних баскских родов; помимо религиозного образования в училище немалое внимание уделялось изучению древнеримской культуры и литературы; особенно часто читали Горация и Федра[17], отсылки к которым и позже будут присутствовать в произведениях классика. Окончив коллеж в 1763 году, юноша вернулся на родину, и, как полагается среди аристократов, новоиспечённого выпускника стали вводить в свет. Кончилось всё довольно нетривиально: вместе с дядей, патриотом и меценатом графом де Пеньяфлорида, Феликс принимает решение основать в Аскойтии Королевское Баскское Общество Друзей Страны, что и было сделано в 1764 году, а через 12 лет работы в Бергаре основывается Баскская Патриотическая семинария для дворянских детей, дабы юноши познавали свет учения недалече от домашних стен. Пусть слово «семинария» не смущает читателя; учебное заведение было вполне светским, причем на профессорско-преподавательский состав здесь не скупились: к примеру, химию преподавал Жозеф-Луи Пруст, тогда ещё молодой аптекарь, позже открывший закон постоянства состава вещества[18], облегчивший жизнь не одному поколению школьников. Сам Феликс Мария занимал вначале должность проректора и по совместительству преподавателя французского и литературы. Уже тогда басни Лафонтена входили в список обязательной литературы для изучения французского языка; как преподаватель литературы, Саманьего дополнил школьную программу баснями Эзопа и Федра.
Первая редакция басен Саманьего увидела свет в 1777 году, причём хвалебный отзыв на басни дал сам Томас де Ириарте[19], тогда уже весьма известный поэт, который вскоре напишет сборник «Басни о литературе»; окончательная редакция вышла в 1784 году. Сто пятьдесят семь басен скомпонованы в 9 книгах; сам Феликс Мария и не скрывал, что адаптировал басни гениального француза наряду с произведениями Эзопа, Федра и Джона Гея[20] (от себя могу добавить, что представительное количество сюжетов также взято из басен Валерия Бабрия[21]), а посему его роль в развитии испанской басни приближается к роли Лафонтена во французской литературе (тоже не только из Эзопа черпавшего сюжеты для своих басен: среди прочих источников встречается и Федр, и Петроний[22], и даже «Панчатантра»[23]). Тем интереснее изучать творчество просвещённого испанца, что и у нас, в России-матушке, есть целая плеяда баснописцев-переводчиков Лафонтена и гениев, адаптировавших Эзопа к реалиям российской действительности. Особняком среди сонма российских баснописцев стоит Иван Андреевич Крылов, поэтому его переводы Лафонтена обязательно фигурируют в приложениях, дабы наиболее ярко выразить примеры адаптации сюжета к русскому мироощущению (кто смог бы написать более по-русски, чем Иван Андреевич?), оттенив этим испанскую специфику перевода французского гения; однако на величайшем русском баснописце свет клином не сошёлся: работы и других представителей, от Александра Петровича Сумарокова и Александра Ефимовича Измайлова[24] до Аполлона Коринфского[25] и Ольги Чюминой[26] также представлены в качестве контрольных образцов при исследовании, к сожалению в виде отсылок, ибо порою пытаясь обеспечить удобство читателя доступом ко всем текстам в одной книге, переводчик (и составитель!) может ещё и незаслуженно получить клеймо плагиатора.
Хотя двадцать басен первой книги – скорее выборка с лёгкой претензией на репрезентативность, чем действительно репрезентативная выборка, уже можно сделать некоторые выводы. Чтобы правильно оценить тенденции и особенности перевода, необходимо понимать, что изначально басни написаны для студентов семинарии, ректором которой Феликс Мария Саманьего станет чуть позже; с одной стороны выпускники Дворянской Семинарии Бергары были представителями просвещённого дворянства (читай, класса-паразита, в силу концентрации колоссальных средств в своих руках вообразившего себя светочем культуры и образования), с другой же, будучи представителями малого народа (подобно корсиканцам или родственным баскам гасконцам во Франции), архаичные баски не отделяли дворянскую честь от воинской доблести (собственно, изначально дворяне были служивым сословием во всём феодальном мире), а также мирных подвигов (к примеру, в колонизации Калифорнии), поэтому правильность перевода заключалась, кроме всего прочего, в упрощении и обязательном включении морали в текст произведения. В качестве ярчайшего примера можно предложить басню «Орёл и скарабей»: в варианте Лафонтена мораль приглушена сказочным объяснением разной сезонности репродуктивных циклов орла и скарабея, у Саманьего же мораль «и слабый может отомстить» выведена на первый план. Лафонтенова маскировка морали небезосновательна: во время написания басни гениальный француз был в опале и пытался вернуть благосклонность Короля-солнца, написав поучительно-развлекательные апологи для дофина; демаскированная мораль могла бы напомнить его величеству о недавно закончившихся Фрондах и противоречила духу просвещённого абсолютизма. В случае же с Саманьего мораль сия весьма полезна для поддержания баскского национального самосознания.
Не менее показательна басня про осла и свина. Скорее всего, источником басни служит произведение Валерия Бабрия «Телёнок и бык»; смена лирических героев, как мы можем увидеть, и здесь обусловлена условиями написания: предисловие посвящено юношам, которых очень легко отождествить с молодыми телятами, ведомыми на заклание, а необходимо привить им трудолюбие взрослого быка, посему и был выбран главным героем осёл, уже бывавший рассудительным, смиренным и трудолюбивым мудрецом в баснях Ваде[27] и Буазара[28]; антагонист же осла – утопающий в роскоши боров, ведущий праздную жизнь; более отталкивающий образ, пожалуй, нельзя и придумать.
Тем же воспитательным эффектом обоснована модальность басни «Цикада и муравей»; вообще, сравнение оригинала и переводов – занятие весьма интересное, ибо даже при полном совпадении фабул оттенки могут нивелировать смысл и мораль вплоть до противоположного. Достаточно вспомнить отличия басен «La Cigale et la Fourmi» Жана де Лафонтена и «Стрекоза и муравей» Ивана Андреевича Крылова: если у Крылова муравей – мирный труженик, у которого вид промёрзшей стрекозы вызывает недоумение, то у Лафонтена – эдакий буржуа, ростовщик, который отказывает цикаде в силу её заведомой неплатёжеспособности. Совершенно отличного муравья от представленных двух являет Саманьего: у него над ростовщической жилкой мелкого буржуа превалирует желание поквитаться с не замечавшей его летом высокомерной лентяйкой, ныне вынужденной лебезить перед тем, кого когда-то презирала. И эту разницу мы видим в произведениях со схожей фабулой, а порою чуть ли не с идентичной канвой повествования! И как после такого не любить басни?
Ещё одна характерная особенность басен Феликса Марии Саманьего – их простота, причём упрощение, по всей видимости, сознательное, и заключается оно не только в лишении сюжета различного рода деталей, как то в баснях «Юноша и Фортуна» и VI («Лев и человек»); можно было бы примером упрощения представить басню «Лиса и бюст», где Лафонтен сюжет басни прописал пунктиром в четырёх строках, утопив фабулу в рассуждениях о тупости вельмож, тогда как Саманьего вернул канву повествования на передний план, но у Лафонтена в повествовании присутствует осёл, фигура вроде бы и не первого плана, но слишком заметная, чтобы её исключать без потери архитектурного облика; куда разумнее считать, что сюжет взят у Эзопа, тем более что Эзоп единственный, у кого не упоминались вельможи.
Иной пример поэтического перевода Эзопа, который можно спутать с переводом произведения Лафонтена – басня «Два приятеля и медведь»; мораль Саманьего по смыслу куда ближе Эзопову заключению, чем к морали Лафонтена, ссылающейся скорее на Абстемия[29], чем на Эзопа; переводы и басни Лафонтена, и басни Эзопа даны в приложениях.
Менее очевидная ситуация с баснями «Мышь полевая и мышь городская»: различие в модусе последней реплики деревенской мыши можно списать и на национальные особенности, и на заимствование не от Лафонтена; я более склонен объяснять сей казус национальными особенностями, потому как прецедент с таким же ужесточением последней фразы мы видели в ранее разобранной басне «Цикада и муравей».
Теперь же мне хотелось бы обратить внимание на исключение из общего правила: если в прочих баснях Саманьего упрощает сюжеты Лафонтена, то в басне «Лиса и аист» он, наоборот, добавляет деталей в виде бронзы голландских фрегатов:
La Zorra con la lengua y el hocicoLimpió tan bien su fuente, que pudieraServir de fregatriz, si á Holanda fuera.…то ли лисица,Мордой своею, предлинным языцемБлюдо очистила так, что, пожалуй, могла быОтдраить с усердьем и бронзу голландских фрегатов.И если замена турецких ковров на голландский сыр в басне «Мышь придворная и мышь городская» могла бы показаться просто адаптацией статусного продукта к местным реалиям, то голландский фрегат (невозможно не вспомнить о Голландской революции!) таки выказывает чаяния Саманьего о широкой автономии, если не о независимости Страны Басков; однако дальше слов дело не зашло: Феликс Мария так и остался умеренным баском, и крамола его так и оставалась в эротических и антиклерикальных стихах да призрачных намёках в дидактических произведениях; посему-то проблемы у великого испанского баснописца были в первую голову не с короной, а с церковью (к примеру, в 1793 году за свои стихи подвергся преследованию испанской инквизиции и был заключён (как предполагалось, надолго) в кармелитский монастырь, но уж вскоре был вызволен оттуда благодаря помощи влиятельных друзей, после чего (сразу же!) написал чрезвычайно невежливую стихотворную сатиру на кармелитов), благодаря чему полное собрание сочинений поэта увидело свет лишь в 1976 году.
Ещё одну деталь можно (и нужно!) подметить в басне: если у Лафонтена лиса уходит посрамлённая, поджав уши и хвост, то у Саманьего наоборот, лиса пытается делать хорошую мину при крайне отвратной игре. В этом я усматриваю специфику испанской литературы, ибо в большинстве испанских басен лиса меньше всего похожа на того, кого можно просто так оставить в дураках; у современника Саманьего Томаса де Ириарте лиса вообще представляется мудрецом, с лёгкостью находящим ответы на вопросы, над которыми бесплодно бьются прочие звери[30].
Также к басням с добавлением деталей можно причислить произведение «Лев и лисица».
Вместе с тем встречаются в сборнике и авторские басни. В качестве примера можно привести басню «Перепёлка», перекликающуюся посылом со стихотворением «Мошки», сюжет которого позаимствован у Эзопа, и произведение «Леопард и мартышки», немного напоминающее басню «Повесившийся кот и крысы»[31], только без счастливого финала.
Ежели в книге и остались неразобранные басни, то это в первую очередь потому, что герой нашей книги и сам наверняка стремился, несмотря на декларируемую развлекательную функцию басен, своими произведениями и поучать, и пробуждать интерес к интеллектуальному труду в головах воспитанников (как-никак именно эти цели и преследуют элитные учебные заведения) согласно принципу классицизма «поучая – развлекай, развлекая – поучай» (такое развитие получила во времена классицизма максима Горация). Я же, скромно следуя сей максиме, умолкаю и желаю приятного прочтения.
I. Осёл и свин[32]
Ученикам баскской патриотической семинарии
Ах, дорогие юноши,В младые ваши годыВ святилище МинервыСвои стопы направляющие!Ступайте ж этою стезёй,Пройдите же, ведомыеПрофессорами мудрыми,К ученью светозарному.И хоть порою этот путьНелёгок и некороток,Его прошедший облегчитТруд тяжкий свой со временем.Так, комья твёрдые землиСохою разбивая,Крестьянин по гряде воловНеспешно направляет;В конце ж плоды трудов видны:Глядь – в середине летаКолосьев морем золотыхОкружена Церера.И чем сложней задача,Свершенье грандиознее —Отрадней тем и слащеИ отдых, и награда.Усталы днесь от праведныхТрудов да длани пахаря,Но в вечер с сладостью какойОн вкусит кисти Бахуса.Так следуйте же, юноши,Дорогой многотрудноюВ святилище МинервыПринять венец лавровый.Но знаю, господа мои,Что среди многих юношейОдин ответит на призыв:– Я не могу, умаялся.И отдыху быть должен час.– Я ль говорил обратное?И хоть от праздности далёк,В строках сих попытаюсь яВам посоветовать досуг —Душа б к нему лежала.Собаки здесь и волки,И кошки здесь с мышами,И лисы с обезьянами,И козы с лошадями:В стихах они нам говорят,И, рассудить коль здраво,Являются их максимыСоветами полезными.Что ж, наслаждайтесь, юноши!Посредством отдыха сегоВы и к школярству своемуВернётесь куда радостней.Так следуйте же, юноши,Дорогой многотрудноюВ святилище МинервыПринять венец лавровый.Но чу! Остановил тебяДосуг и мой подарок?Тогда Эзопа слушайте,О юноши любезные.Завидуя судьбе свиной,Клянет осёл несчастный жребий свой.– Я, – говорит, – тружусь, мне от соломы пусто,А свин, лентяй, муку ест и капусту;Меня всяк божий день бьют батогами,Его ж, упрямца, чешут и ласкают!Так сетовал он на свою судьбину,Но позже по-иному всё решилось:Какой-то человек да в фартуке мясницкомВошёл в свинарник, к свину устремился,Ножом и котелком вооружён,Движеньем хищным онКонец кровавый жизни дал свиной.Сказал промеж себя осёл дурной:Коль праздных таковы награды ждут —То лучше мне батог и тяжкий труд.El Asno y el CochinoÁ LOS CABALLEROS ALUMNOS DEL REAL SEMINARIO PATRIÓTICO VASCONGADO
Oh jóvenes amablesQue, en vuestros tiernos años,Al templo de MinervaDirigís vuestros pasos;Seguid, seguid la sendaEn que marcháis, guiadosÁ la luz de las cienciasPor profesores sabios.Aunque el camino seaYa difícil, ya largo,Lo allana y facilitEl tiempo y el trabajo.Rompiendo el duro suelo,Con la esteva agobiado,El labrador sus bueyesGuía con paso tardo;Mas al fin llega á verseEn medio del veranoDe doradas espigas,Como Ceres, rodeado.Á mayores tareas,Á más graves cuidadosEs mayor y más dulceEl premio y el descanso.Tras penosas fatigas,La labradora mano¡Con qué gusto recogeLos racimos de Baco!Ea, jóvenes, ea,Seguid, seguid marchandoAl templo de MinervaÁ recibir el lauro.Mas yo sé, caballeros,Que un joven entre tantosResponderá á mis voces:No puedo, que me canso.Descanse en hora buena,¿Digo yo lo contrario?Tan lejos estoy de eso,Que en estos versos tratoDe daros un asuntoQue instruya deleitando.Los perros y los lobos,Los ratones y gatos,Las zorras y las monas,Los ciervos y caballosOs han de hablar en verso,Pero con juicio tanto,Que sus máximas seanLos consejos más sanos.Deleitaos en ello,Y con este descansoÁ las serias tareasVolved más alentados.Ea, jóvenes, ea,Seguid, seguid marchandoAl templo de MinervaÁ recibir el lauro.Pero ¡qué! ¿os detieneEl ocio y el regalo?Pues escuchad á Esopo,Mis jóvenes amados.Envidiando la suerte del CochinoUn Asno maldecía su destino.Yo, decía, trabajo y como paja;Él come harina y berza, y no trabaja.Á mí me dan de palos cada día;Á él le rascan y halagan á porfía.Así se lamentaba de su suerte;Pero luego que advierteQue á la pocilga alguna gente avanzaEn guisa de matanza,Armada de cuchillo y de caldera,Y que con maña fieraDan al gordo Cochino fin sangriento,Dijo entre sí el Jumento:Si en esto para el ocio y los regalos,Al trabajo me atengo y á los palos.II. Цикада и муравей
Певала цикада —Да целое лето,Запасов не делаяНа зиму грядущую.Морозы заставилиХранить молчаниеИ законопатитьсяВ тесной каморке.Живёт, не имеяСредств к пропитанию:Ни червячка, ни мошки,Ни ржаного зёрнышка.За перегородкоюЖил муравьишечка,И кланяется ему,Елейно пиликает:– Синьор мой, – цикада, —А в житнице вашейОстались излишки лиВ пищу пригодные,Одолжите хоть зёрнышкоПрожить зиму лютуюТой грустной цикаде,Что смеялась когда-то,Юдоли не ведая,Опаски не зная.И о барышеВам не след волноваться,Плачу без просрочки,Вот имя в залог Вам.Муравей-сребролюбецОтвечает заносчиво,Закрывши спиноюКлючи от амбара:– Дам, допустим, что нажитоТрудом непосильным!Но поведай, трещотка,Что же летом ты делала?– Я, – цикада в ответ ему, —Встречным всем и прохожимПела песни весёлые,Ни на миг не смолкая.– Здрассте! Пела ты, стало быть,Когда я с ног валился?Ну-сс, теперь буду ужинать,Ты ж пляши, пока ноги несут!La Cigarra y la Hormiga[33]Cantando la Cigarra,Pasó el verano enteroSin hacer provisionesAllá para el invierno.Los fríos la obligaronÁ guardar el silencio,Y á acogerse al abrigoDe su estrecho aposento.Vióse desproveídaDel preciso sustento,Sin mosca, sin gusano,Sin trigo, sin centeno.Habitaba la HormigaAllí tabique en medio,Y con mil expresionesDe atención y respetoLa dijo: – Doña Hormiga,Pues que en vuestros granerosSobran las provisionesPara vuestro alimento,Prestad alguna cosaCon que viva este inviernoEsta triste Cigarra,Que alegre en otro tiempo,Nunca conoció el daño,Nunca supo temerlo.No dudéis en prestarme,Que fielmente prometoPagaros con ganancias,Por el nombre que tengo. —La codiciosa HormigaRespondió con denuedo,Ocultando á la espaldaLas llaves del granero:– ¡Yo prestar lo que ganoCon un trabajo inmenso!Díme pues, holgazana,¿Qué has hecho en el buen tiempo?– Yo, dijo la Cigarra,Á todo pasajeroCantaba alegrementeSin cesar ni un momento.– ¡Hola! ¿conque cantabasCuando yo andaba al remo?Pues ahora que yo como,Baila ¡pese á tu cuerpo!III. Юноша и Фортуна
У бортика колодезногоДа на травке свежейНеосторожный юношаКрепко очи смежил.Его Фортуна кличет:– Проснись же, несмышлёныш!Не чуешь, что сползаешь тыИ утонуть так можешь?Ведь вы меня, негодники,Зело клянёте частоЗа то, что я недобрая,И за непостоянство.Фортуной объясняетеНесчастия и бедствия,Что ж не сопоставляетеПоступки и последствия?El Muchacho y la Fortuna[34]Á la orilla de un pozo,Sobre la fresca hierba,Un incauto manceboDormía á pierna suelta.Gritóle la Fortuna:– Insensato, despierta;¿No ves que ahogarte puedesÁ poco que te muevas?Por ti y otros canallasÁ veces me motejan,Los unos de inconstante,Y los otros de adversa.Reveses de fortunaLlamáis á las miserias:¿Por qué, si son revesesDe la conducta necia?IV. Перепёлка
В силках тугих запутавшись,Простая перепёлочкаОкругу оглашаетСожаленьем запоздалым.– Ах, мне судьба презренная,Ах, пташка я несчастная,Что раньше пела, вольная,Теперь рыдаю пленницей!Прощай, гнездо уютноеИ радости семейные;Всё потеряла наконец,Ведь жизнь моя утрачена.За что мне униженье то?За что это несчастие?За зёрнышко пшеничное:Ох, дорого то лакомство!А скольких погубилоВлечение слепое;Ведь ради сущей мелочиВсем жертвуют порою!La CodornizPresa en estrecho lazoLa Codorniz sencillaDaba quejas al aire,Ya tarde arrepentida.– ¡Ay de mí miserable,Infeliz avecilla,Que antes cantaba libre,Y ya lloro cautiva!Perdí mi nido amado,Perdí en él mis delicias;Al fin perdílo todo,Pues que perdí la vida.¿Por qué desgracia tanta?¿Por qué tanta desdicha?Por un grano de trigo:¡Oh cara golosina!¡El apetito ciegoÁ cuántos precipitaQue, por lograr un nada,Un todo sacrifican!V. Орёл и скарабей
– Спасите! Убивают! – верещалКрольчонок, что в недобрый час попалДа в когти кровожадного орла.На крики (так Эзопа басня шла)Участливый явился скарабей;И покороблен был он сценой сей,Чтоб малыша от смерти уберечь,К Орлу, страх поборов, жук держит речь:– О, император птиц, небес закон!Зачем крадёшь последний вздох и стонУ бедной твари, робкой и смиренной?Не благородней властным ли движеньемДа с хищником зловредным разобраться —Уж Вам сопротивления ль бояться? —Потешить когти и свой крепкий клюв,Терзая супостата тёплый труп?Как только скарабей ни распинался —Орёл в ответ с презреньем лишь смеялся;Не обращая более вниманья,Он растерзал ушастое созданье.А тот, над кем изволили смеяться,Идеей загорелся расквитаться.При первой же возможности удобнойВ гнездо летит наш жук да к птице гордой:Там яйца обнаружил; покатив,По очереди правит их в обрыв.И словно бы того недоставало,И мести этой скарабею мало,Что у орла уже потомства нет,Ведь хитрый жук их превратил в омлет.Царь птиц, утешиться не в силах,Широкие свои направил крыльяК Юпитеру да с просьбою смиреннойСлугу послушать и, совет дав дельный,Помочь в беде. И милостивый бог,Казалось бы, слугу утешить смог,Позволив следующую кладкуСнести на своего плаща подкладку,Чтобы орёл с охоты смог вернутьсяИ счастливо к орлятам прикоснуться.А скарабей, прознав о том явленье,Продолжил изощрённо мщенье,Шар смастерил наш жук проворноИз вещества, с которым он работал(Название его все знают,Но всяк молчать предпочитает)И о котором, уточнить бы надо:Всяк знает бог, что то – не ладан.Взлетает дерзкий жук, тем шаром нагружён —В священное гнездо творенье скинул он.Юпитер, на плаще увидев грязь,Перетряхнул одежду сей же час,Так избавлявшийся от нечистотОтправил и гнездо орлиное в полёт.Узнав о происшествии, палачРвёт перья, каясь, испускает плач;Ценою дорогой дался ему урок:Чтоб малого он впредь и презирать не мог,Как скарабея;Каким бы ни был жалким он, ей-ей,Но если униженьем разозлить,Ужели не найдёт, как отомстить?El Águila y el Escarabajo[35]«¡Qué me matan! favor»: así clamabaUna Liebre infeliz, que se mirabaEn las garras de un Águila sangrienta.Á las voces, según Esopo cuenta,Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

