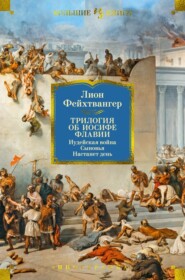скачать книгу бесплатно
– Что это вы вздумали? Говорите по-арамейски.
– А вы все поймете? – наивно опросил Иосиф.
– Кто вам сказал, что я хочу все понять? – возразила императрица.
Иосиф пожал плечами скорее высокомерно, чем обиженно, затем стремительно заговорил по-арамейски, как он первоначально подготовил свою речь, а цитаты из Писания, не смущаясь, приводил по-еврейски. Но он не мог сосредоточиться и чувствовал, что говорит без подъема; он смотрел, не сводя глаз, на императрицу – сначала смиренно, потом немного застенчиво, потом с интересом, под конец даже дерзко. Он не знал, слушает ли она и тем более понимает ли его. Когда он кончил, почти тотчас же вслед за его последним словом, она спросила:
– Вы знаете Клею, жену моего губернатора в Иудее?
Особенно поразило Иосифа слово «моего». Как это прозвучало: «Моего губернатора в Иудее!» Он представлял себе, что такие слова должны быть точно высечены из камня, а тут перед ним сидело дитя и говорило, улыбаясь: «Мой губернатор в Иудее», – и это звучало убедительно, это соответствовало истине: Гессий Флор был ее губернатором в Иудее. Все же Иосиф не хотел допустить, чтобы это ему импонировало:
– Жены губернатора я не знаю. – И дерзко добавил: – Смею ждать ответа на свое сообщение?
– Я приняла ваше сообщение к сведению, – ответила императрица. Но кто мог отгадать, что это означало?
Актер решил, что пора вмешаться.
– У доктора Иосифа нет времени вести светскую жизнь, – помог он Иосифу. – Он занимается литературой.
– О! – сказала Поппея и стала очень серьезной и задумчивой. – Еврейская литература! Я мало ее знаю. То, что я знаю, прекрасно, но очень трудно.
Иосиф насторожился, взял себя в руки. Он должен, должен смягчить сердце этой дамы, сидевшей перед ним так спокойно и насмешливо. Он стал рассказывать о том, что его единственное желание – это раскрыть перед римлянами сокровищницу мощной еврейской литературы.
– Вы привозите с Востока жемчуга, пряности, золото и редких зверей, – заявил он. – Но его лучшее сокровище – его книги – оставляете без внимания.
Поппея спросила, как он думает раскрыть римлянам еврейскую литературу.
– Откройте же мне что-нибудь, – сказала она и внимательно посмотрела на него зелеными глазами.
Иосиф опустил веки, как это делали у него на родине рассказчики сказок, и начал. Он взял первое, что ему пришло на ум, и рассказал о Соломоне, царе Израиля, о его мудрости, его силе, его постройках, его храме, его женах, об его идолопоклонстве, о том, как царица из Эфиопии посетила его, и как он разрешил спор двух женщин из-за ребенка, и как он написал две замечательные книги: одну – о мудрости, под названием «Проповедник», и одну – о любви, под названием «Песнь песней». Иосиф пытался процитировать несколько строф из «Песни песней» на какой-то смеси арамейского и греческого. Это было нелегко. Теперь его глаза уже не были закрыты, и он переводил не столько словами, сколько старался дать ей почувствовать пламенные стихи с помощью жестов, вздохов и движений всего тела. Императрица чуть подалась вперед. Ее локти лежали на ручках кресла, рот был полуоткрыт.
– Это прекрасные песни! – сказала она, когда Иосиф остановился, тяжело дыша от напряжения. И обратилась к актеру. – Ваш друг – славный мальчик, – сказала она.
Деметрий Либаний, как бы несколько отодвинутый на второй план, воспользовался ее словами, чтобы снова занять первое место. Сокровища еврейской литературы неисчерпаемы, заметил он. И он нередко пользуется ими, чтобы освежить свое искусство.
– Вы были изумительно вульгарны, Деметрий, – с восхищением сказала императрица, – в последний раз, когда играли раба Исидора. Я так смеялась…
Лицо Деметрия Либания чуть скривилось. Императрица прекрасно знала, что слышать подобную похвалу именно от нее он вовсе не желал. Дерзкий и неотесанный юноша из Иерусалима не принес ему счастья. Вся эта аудиенция была ложным шагом, не следовало ее затевать.
– Вы еще обязаны сказать мне одну вещь, Деметрий, – продолжала императрица. – Вы все твердите о какой-то большой революционной идее, с которой носитесь. Может быть, вы ее наконец откроете мне? По правде говоря, я что-то в нее уже не верю.
Актер сидел мрачный и раздраженный.
– У меня больше нет оснований умалчивать о своей идее, – сказал он наконец вызывающе. – Она связана с тем, о чем мы все время говорим. – Он сделал короткую выразительную паузу, затем бросил очень легко: – Я хочу сыграть еврея Апеллу.
Иосиф испугался. Еврей Апелла – это был тот образ еврея, каким его создал злой народный юмор римлян, – крайне противный персонаж, суеверный, вонючий, отвратительный, шутовской; великий поэт Гораций пятьдесят лет назад ввел этот тип в литературу. И теперь Деметрий Либаний хочет?.. Иосиф испугался.
Но он испугался еще больше, взглянув на императрицу. Ее матово-бледное лицо покраснело. В этой изменчивости и многогранности было что-то восхитительное и страшное.
Актер наслаждался произведенным впечатлением.
– На наших сценах, – пояснил он, – играли греков и римлян, египтян и варваров, но еврея еще никогда.
– Да, – сказала тихо и с усилием императрица. – Это хорошая и опасная идея.
Все трое сидели молча, задумавшись.
– Слишком опасная, – промолвил наконец актер, печально, уже раскаиваясь. – Боюсь, что не смогу ее осуществить. Мне не следовало открывать ее. Как хорошо было бы сыграть еврея Апеллу – не того смешного дурака, каким его делает народ, а настоящего, со всей его скорбью и комизмом, с его постами и невидимым богом. Вероятно, я единственный человек на свете, который мог бы это сделать. Это было бы замечательно! Но это слишком опасно. Вы, ваше величество, кое-что в нас, евреях, понимаете, но много ли еще таких людей в Риме? Будут смеяться, только смеяться, и все мои старания вызовут лишь злобный смех. А это было бы плохо для всех евреев. – И после паузы добавил: – Да и опасно для меня самого перед моим невидимым богом.
Иосиф сидел, оцепенев. Все это – вещи странные и сомнительные, и он тоже в них впутался. Он на себе испытал, с какой невероятной силой действует подобное театральное представление. Его пылкая фантазия уже рисовала ему актера Деметрия Либания на сцене; он вливает жуткую жизнь в образ еврея Апеллы, танцует, прыгает, молится, говорит тысячами голосов своего выразительного тела. Всему миру известно, как изменчивы настроения римской публики. Никто не мог предвидеть, какие последствия, до самой парфянской границы, вызовет такое представление.
Императрица поднялась. Своеобразным движением скрестила она руки на затылке под узлом волос, так что завернулись рукава, и принялась ходить взад и вперед по всему покою, шлейф ее строгого платья волочился вслед. Мужчины вскочили, как только поднялась императрица.
– Молчите, молчите!.. – бросила она актеру; Поппея загорелась его идеей. – Не трусьте же, если у вас наконец возникла действительно хорошая мысль. – Она остановилась рядом с актером, почти нежно обняла его за плечи. – Римский театр скучен, – пожаловалась она. – Или грубость и пошлость, или сплошные мертвые традиции. Сыграйте мне еврея Апеллу, милый Деметрий, – попросила она. – Уговорите его, молодой человек, – обратилась она к Иосифу. – Поверьте мне, всем вам будет чему поучиться, если он сыграет еврея Апеллу.
Иосиф стоял молча, в мучительной неуверенности. Румянец вспыхивал и гас на его смугло-бледном лице. Уговаривать ли ему Деметрия? Он знал, что актер всем существом своим жаждет показать свое еврейство во всей его наготе перед этим великим Римом. Достаточно одного его слова – и камень покатится. Но куда он покатится – не знает никто.
– Вы скучны! – сказала императрица недовольным тоном. Она снова села. Мужчины еще стояли. Хотя актер привык управлять своим телом, но теперь стоял в некрасивой, беспомощной позе. – Ну, говорите же, говорите! – убеждала императрица Иосифа.
– Бог теперь в Италии, – сказал Иосиф.
Актер поднял глаза; было ясно, что эти многозначительные слова попали в цель, что они отмели сложный клубок сомнений. На императрицу эти слова тоже произвели впечатление.
– Превосходно сказано! – Она захлопала в ладоши. – Вы умница! – прибавила она и записала имя Иосифа.
Иосиф почувствовал себя и осчастливленным, и удрученным. Он не знал, что подсказало ему эти слова. Неужели он их сам нашел? Говорил ли он их когда-нибудь раньше? Во всяком случае, это были нужные слова в нужную минуту. И совершенно все равно, он ли их придумал или кто другой. Все дело в том, в какой момент слова сказаны. Мысль: «Бог теперь в Италии» – только сейчас обрела жизнь, в этот миг ее великого воздействия.
Но возымела ли она действие? Актер все еще стоял в нерешительности или, по крайней мере, прикидывался нерешительным.
– Скажите же «да», Деметрий, – настаивала императрица. – Если вы заставите его согласиться, – обратилась она к Иосифу, – ваши трое невинных получат свободу.
В горячих глазах Иосифа вспыхнуло яркое пламя. Он низко склонился перед императрицей, бережно поднял ее белую руку, поцеловал долгим поцелуем.
– Когда же вы сыграете мне еврея? – спросила тем временем императрица актера.
– Я еще ничего не обещал, – быстро и испуганно возразил Деметрий.
– Дайте ему письменную гарантию насчет наших подзащитных, – попросил Иосиф.
Императрица признательно улыбнулась ему в ответ на эти «ему» и «наших». Она вызвала своего секретаря.
– Если актер Деметрий Либаний, – диктовала она, – сыграет еврея Апеллу, то я исходатайствую освобождение трем еврейским заключенным, находящимся на Тибурском кирпичном заводе.
Она велела подать ей дощечку. Поставила внизу свою букву «П», протянула дощечку Иосифу, посмотрела на него ясными зелеными насмешливыми глазами. И на ее взгляд он ответил взглядом – смиренным, но таким настойчивым и долгим, что насмешка медленно погасла в ее глазах и их ясность затуманилась.
После аудиенции Иосиф чувствовал себя на седьмом небе. Другие оказывали почести бюсту императрицы, великой, богоподобной женщине, которая с улыбкой приказала убить свою могущественную противницу – императрицу-мать и с той же улыбкой поставила на колени сенат и римский народ. Он же говорил с этой знатнейшей дамой мира, как разговаривал с любой девушкой в повседневной жизни… Йильди, яники… Достаточно было ему посмотреть ей в глаза долгим взглядом, и она уже обещала ему освобождение трех старцев, которого, при всей своей мудрости и политическом опыте, не мог добиться Иерусалимский Великий совет.
Окрыленный, бродил он по улицам правого берега Тибра, среди евреев. Люди почтительно смотрели ему вслед. За ним раздавался шепот: «Это доктор Иосиф бен Маттафий, из Иерусалима, священник первой череды, любимец императрицы».
Девушка Ирина положила к его ногам, словно коврик, свое почитание. Прошло то время, когда в канун субботы Иосифу приходилось сидеть среди менее чтимых гостей. Теперь Гай Барцаарон чувствовал себя польщенным, когда Иосиф занимал почетное место на застольном ложе. Больше того: хитрый старик перестал быть сдержанно-замкнутым и открыл Иосифу кой-какие затруднения, которые тщательно таил от остальных.
Дела его мебельной фабрики шли, как и раньше, прекрасно. Но все сильнее ему начинала угрожать некая опасность, которую он предчувствовал уже много лет. У римлян все больше входила в моду обстановка с украшениями в виде зверей – ножки от столов, рельефы, всевозможные детали. А ведь в Писании сказано: «Не сотвори себе кумира», – и иудеям запрещалось создавать изображения живых существ. Поэтому Гай Барцаарон до сих пор избегал выделывать мебель с украшениями в виде животных. Однако конкуренты беззастенчиво пользовались этим; они заявили, что его продукция устарела, и его мучила потеря стольких клиентов. Отказ от подобных украшений обходился ему теперь, после пожара, в сотни тысяч. Гай Барцаарон искал выхода, обходов. Подчеркивал, что не сам же пользуется своей мебелью, а только продает ее. Добился экспертизы ряда теологов. Уважаемые ученые в Иерусалиме, Александрии и Вавилоне объявили выработку таких украшений в данном случае грехом простительным или даже делом дозволенным. И все-таки Гай Барцаарон колебался. Он никому не говорил об этих отзывах. Ибо отлично знал: пренебреги он, опираясь на них, сомнениями правоверных, его положение в общине будет сильно поколеблено. А его отец, древний старец Аарон, может даже из-за такого либерализма, упаси боже, умереть от скорби. Вот почему этот столь самоуверенный на вид человек был полон колебаний и тревог.
Иосиф не слишком строго придерживался обрядов. Но «не сотвори себе кумира» – это более чем закон: это одна из основных истин иудаизма. «Слово» и «кумир» исключали друг друга. Иосиф был писателем до мозга костей. Он поклонялся незримому слову. Нет на свете ничего могущественней слова; безобразное, оно действует сильнее всякого образа. Только тот может действительно обладать словом Божьим, святым, незримым, кто не осквернил его чувственными представлениями, кто отказывается в самых глубинах души от пустой суетности воплощенного образа. Он слушал разглагольствования Гая Барцаарона с замкнутым выражением лица, холодно. Но как раз это и привлекало старика. Да, Иосиф чувствовал, что Гай охотно взял бы его в зятья.
Тем временем постепенно просачивались слухи, что освобождение трех невинных связано с выполнением какого-то условия. Когда евреи узнали, что это за условие, их радость исчезла. Как? Актер Деметрий Либаний будет играть еврея Апеллу, да еще, пожалуй, в Помпеевом театре, перед сорока тысячами зрителей? Еврей Апелла! Евреев знобило, когда они слышали то злобно-насмешливое прозвище, в которое Рим вложил все свое отвращение к пришельцам, живущим на правом берегу Тибра. Во время еврейских погромов при императорах Тиберии и Клавдии это прозвище сыграло немалую роль, оно знаменовало грабеж и резню. Разве дремлющая сейчас вражда не могла ежеминутно проснуться? Разве не глупо и не кощунственно будить ее? Существует немало печальных примеров того, на что способна римская публика в театре, когда она захвачена аффектом. Какая чудовищная дерзость со стороны Деметрия Либания – вызвать на подмостки видение еврея Апеллы!
И снова, с удвоенной яростью, обрушились правовернейшие из еврейских ученых на актера Либания. Грех уже одно то, что он выходит на сцену, облекаясь в одежду и плоть другого человека! Разве Господь Бог, благословенно имя его, не дал каждому собственный облик и собственную плоть? Разве поэтому не восстает против Бога тот, кто пытается заменить их другими? Но изображать еврея, одного из произошедших от семени Авраамова, избранных, выставлять его на потеху необрезанным – это смертный грех, недопустимая дерзость, это навлечет несчастье на головы всех. И они требовали опалы и изгнания Деметрия Либания.
Либералы-ученые горячо защищали актера. Разве то, что он хотел сделать, делалось не ради блага трех невинных? Разве это не единственное средство их спасения? Разве помогать узникам – не одно из высших велений Библии? Кто посмел бы сказать актеру: не делай этого, пусть они сгниют на кирпичном заводе, как сгнили тысячи их предков в каменоломнях Египта?
Происходили бурные споры. На семинарах студентов-теологов одни библейские цитаты хитроумно противопоставлялись другим библейским цитатам. Этот интересный вопрос был поставлен на обсуждение каждой еврейской высшей школы, о нем спорили в Иерусалиме, в Александрии, среди известных ученых Вавилона, на далеком Востоке. Случай, казалось, был прямо создан для того, чтобы юристы и теологи упражняли на нем свое хитроумие.
А сам актер Либаний открывал всем и каждому происходивший в нем конфликт между его религиозной и артистической совестью. В душе он давно решил сыграть еврея Апеллу, чего бы это ни стоило. И знал также совершенно точно, как он его сыграет. Уже его либреттисты, и прежде всего тонкий, остроумный сенатор Марулл, придумали яркий сценарий, выигрышные ситуации. Странному автоматическому и покорному раскачиванию трех невинных в темнице актер был обязан целым рядом особенно удачных, жутко-гротескных находок. Он поставил себе целью дать смелое сочетание трагического и смешного. В дешевых кабаках деловых кварталов, в кварталах, где находились склады, бараки, он осторожно исполнял отдельные сцены, проверяя впечатление. Затем снова тревожился, что ему, вероятно, все же этой пьесы сыграть не удастся, запрещает совесть. Довольный, наблюдал он, как постепенно весь Рим начал волноваться, будет актер Деметрий Либаний играть еврея Апеллу или не будет? Где бы ни появлялись его носилки, слышались радостные крики, люди аплодировали и кричали: «Привет тебе, Деметрий Либаний! Сыграй нам еврея Апеллу!»
Он говорил и императрице о том, в какое трудное, сомнительное предприятие ему приходится пускаться и как тяжелы его раздумия. А императрица смеялась, смеясь, смотрела на колеблющегося. Начальнику Тибурского кирпичного завода был послан приказ держать еврейских заключенных в хороших условиях, а то как бы они за это время не умерли. Поппея ждала заключения от министерства просьб и жалоб. Конечно, освобождение трех старцев – это, в сущности, пустяки, но политика Рима на Востоке сложна, а Поппея была в достаточной мере римлянкой, чтобы сейчас же отказаться от амнистии, если бы это вызвало малейшие политические сомнения. Нужно будет, и она с улыбкой кассирует свое обещание.
Но пока ей нравилось вновь и вновь подталкивать актера к исполнению его намерения. Она рассказывала ему, что оппозиционная высшая аристократия в сенате уже противодействует амнистии. Он должен поэтому решиться, – нехорошо бесцельно умножать страдания этих трех несчастных. Она улыбалась:
– Когда же вы нам сыграете еврея Апеллу, Деметрий?
Министр Филипп Талассий, начальник Восточного отдела императорской канцелярии, второй раз вызывает массажиста, чтобы тот растер ему руки и ноги. Еще ранняя осень, солнце только что село, никто еще не зябнет, но министр никак не может согреться. Он лежит, этот маленький старичок с хищным носом, на кушетке, обложенный подушками и одеялами, перед ним две грелки с углями: одна – для рук, другая – для ног. Стоя по ту сторону кушетки, раб-массажист с боязливым усердием растирает пергаментную сморщенную кожу, на которой, синея, выступают жилы. Министр бранится, грозит. Массажист старается осторожно скользить по шрамам на плечах старца; эти шрамы, он знает, остались от ударов бича, которые министр Талассий получил, когда был еще рабом в Смирне. Врачи испробовали сотни средств, чтобы свести шрамы, они оперировали его, знаменитый специалист Скрибоний Ларг применял все свои мази, но старые шрамы не поддавались.
Сегодня скверный день, черный день, вся челядь в доме министра Талассия это уже почувствовала на собственной шкуре. Секретарь знает, что послужило причиной дурного настроения министра. Оно овладело им после того, как секретарь передал ему письмо из министерства просьб и жалоб, всего маленький формальный запрос. Господа из министерства, и прежде всего хитрый толстяк Юний Фракиец, охотно обошли бы министра Талассия, они не любят его. Но при теперешнем императоре Восточный отдел стал центральным пунктом всей государственной политики, а известно, какой неимоверный скандал устраивает каждый раз Филипп Талассий, когда его не слушают в каком-нибудь деле, имеющем хотя бы отдаленное отношение к его ведомству. Поэтому ни один вопрос в кабинете императрицы не разрешался без заключения Талассия.
Само по себе дело это пустяковое. Речь идет о каких-то старых евреях, в связи с еврейскими беспорядками в Кесарии несколько лет назад приговоренных к принудительным работам. На императрицу, как видно, опять нашла блажь – уже в который раз! – и она желает амнистировать преступников. Ее величество вообще питает подозрительную слабость к евреям. «Шлюха проклятая! – думает министр и сердито толкает массажиста локтем. – Наверное, сама произошла от блуда с каким-нибудь евреем, несмотря на свою старую аристократическую фамилию. Эти надменные римские аристократы спокон веков заражены всякими пороками и развращены до мозга костей».
Конечно, против каприза императрицы особенно не пойдешь, можно выдвинуть только самые общие доводы: положение на Востоке, дескать, требует непоколебимой решительности даже в делах, как будто и незначительных, и тому подобное.
Маленький крючконосый господин сердится. Он прогоняет массажиста – этот идиот все равно ничем ему не поможет. Министр перевертывается на бок, подтягивает острые коленки до самой груди, думает напряженно, желчно.
Вечно эти евреи! Везде становятся они поперек дороги.
После успехов фельдмаршала Корбулона у парфянской границы политика на Востоке развивается очень удачно. Император ужален честолюбием, он мечтает стать новым Александром, расширить сферу римского влияния до Инда. Великие таинственные походы на далекий Восток, о которых Рим мечтает уже целое столетие, казавшиеся еще поколение назад наивными мальчишескими фантазиями, стали теперь предметом серьезных обсуждений. Авторитетные военные разработали планы; министерство финансов после тщательнейшей проверки заявило, что средства могут быть предоставлены.
В этом смелом проекте нового Александрова похода есть только одно уязвимое место: это провинция Иудея. Она лежит как раз на пути движения войск; и нельзя начинать великого дела, пока столь сомнительная точка не будет прибрана к рукам и укреплена. Другие члены кабинета его величества улыбаются, когда министр Талассий об этом заговаривает, они считают его юдофобство просто манией. Но он, Филипп Талассий, знает евреев по своему азиатскому прошлому! Он знает, что с ними невозможно жить в мире, это фанатичный, суеверный, до сумасшествия высокомерный народ, и они не успокоятся до тех пор, пока их окончательно не укротят, пока не сровняют с землей их дерзкую столицу. Все вновь и вновь попадаются губернаторы на удочку их миролюбивых обещаний, и все вновь оказывается, что эти обещания – ложь. Никогда эта маленькая нелепая провинция не могла лояльно подчиниться господству римлян, как подчинялось ему столько других, более обширных и мощных стран. Их бог не ладит с другими богами. В сущности, со смерти последнего царя, правившего в Иерусалиме, Иудея все время находится в состоянии войны, и смута в ней не утихнет, война будет продолжаться; Александров поход окажется невозможным, пока Иерусалим не разрушат.
Министр Талассий знает, что его соображения правильны, но он знает также, что не только в них причина того, что каждый раз, когда он слышит о евреях, у него начинается изжога и колики под ложечкой. Он вспоминает свое прошлое: то время, когда в виде приложения к драгоценному канделябру он попал в руки хозяина, культурного знатного грека; с каким трудом он выдвинулся благодаря своей памяти и красноречию, так что хозяин дал ему образование; как он участвовал в конкурсе тех, кого должны были принять на службу к цезарю и как начальник императорской канцелярии Гай экзаменовал его, а еврейский переводчик Феодор Заккаи издевался над его арамейским языком, почему его, Талассия, едва не отвергли. А сделал он всего-навсего крошечную ошибку, можно было даже спорить, ошибка ли это. Но еврей не спорил, он просто поправил его. «Наблион», – сказал Талассий, а еврей поправил: «Набла» или, может быть, «небель», но ни в коем случае не «наблион», – и при этом так гнусно, оскорбительно улыбался. И что было бы с ним, Талассием, если после стольких лет труда и расходов его бы в Риме не приняли? Что бы с ним сделал хозяин? Велел бы засечь до смерти. Вспоминая улыбку того еврея, министр холодел от страха и ярости.
И все же это была не только личная обида: верное политическое чутье настраивало его против евреев. Мир был римским, в мире царило равновесие благодаря единой греко-римской системе. И только евреи мутили, не желали признавать неоценимое благо этой мощной, объединяющей народы организации. Великий торговый путь в Индию, предназначенный вести греческую культуру на самый далекий Восток, не мог быть открыт, пока этот надменный, упрямый народ не будет окончательно растоптан.
К сожалению, при дворе слепы к тому, чем угрожает Иудея. В императорском дворце веет ветер, дьявольски благоприятный для евреев. Его коллега толстяк Юний Фракиец, министр юстиции, покровительствует им. Они засели даже в финансовом управлении. Только за последние три года в списки всадников было внесено двадцать два еврея. Они проникали на сцену, в литературу. Разве не ощущается почти физически, как они своими нелепыми, суеверными книгами разлагают империю? Клавдий Регин выбрасывает теперь на рынок этот бред целыми партиями. Мысленно произнося имя Регина, старик-министр подтягивает колени еще выше. К хитрости этого человека, как он ему ни противен, министр все же чувствует почтение. Дело в том, что у этого Регина в ларце есть жемчужина – огромный нежно-розовый экземпляр, без единого порока. Талассий бы охотно купил у него эту жемчужину. Ему кажется, что, носи он ее на пальце, кожа станет менее сухой. Может быть, жемчужина повлияла бы благоприятно и на шрамы на его плечах; но несносный еврей богат, деньги его не привлекают, он жемчужину не продаст.
Министр Талассий раздумывает о том и о сем. Волнения в Кесарии. Регин и его кольцо. Не обратиться ли к сенату? Можно привести пример Парфянской войны. А все-таки правильнее «наблион».
И вдруг он порывисто перевертывается на спину, вытягивается, смотрит покрасневшими сухими глазами в потолок. Желудочные боли прошли, исчез и озноб. У него возникла идея, превосходная идея. Нет, он не будет заниматься пустяками. Какой толк, если даже эти три пса на кирпичном заводе издохнут? Пусть господа евреи получают своих любимцев. Пусть их замаринуют с чесноком или хранят в своих ящиках-утеплителях. Он придумал кое-что получше. За освобождение трех старикашек он предъявит евреям такой счет, какого не придумать и господам из министерства финансов. Эдикт, эдикт о Кесарии. Он пристегнет амнистию к делу Кесарии. Завтра он снова предложит императору эдикт о Кесарии. Семь месяцев ждет он подписи; придравшись к этому случаю, он ее получит. Нельзя давать евреям все, чего они захотят. Нельзя им отдать трех преступников да еще город Кесарию в придачу. Или то, или другое. Так как этого желает императрица, то ее драгоценные мученики будут освобождены. Но от притязаний на Кесарию евреям придется отказаться навсегда.
Он вызывает секретаря, требует свою докладную записку о Кесарии. Насколько он помнит, она написана кратко и резко. Так любит император: он не хочет подолгу возиться с политикой, его интересуют другие вещи. Впрочем, соображает император хорошо – у него быстрый, острый ум. Только бы добиться, чтобы он действительно прочел докладную записку, и тогда его подпись под эдиктом гарантирована. Ведь историю с тремя приговоренными к принудительным работам и нельзя ликвидировать без того, чтобы весь этот вопрос о Кесарии не был в конце концов разрешен. Да, на этот раз императору придется согласиться. Какая удачная мысль пришла в голову Поппее – потребовать освобождения трех заключенных!
Приходит секретарь, приносит ему докладную записку. Талассий пробегает ее глазами. Да, он изложил дело ясно и убедительно.
Свободное население Кесарии состоит на сорок процентов из евреев и на шестьдесят – из греков и римлян. Однако в городском самоуправлении евреи имеют большинство. Они богаты, а закон о выборах дает право голоса на основе имущественного ценза. Построенное по этому принципу избирательное право в общем оправдало себя в провинциях Сирии и Иудее. Почему бы тем, кто дает общинам большую часть налогов, и не распоряжаться этими средствами? Но в Кесарии избирательный закон является большой тяжестью для большинства населения. Ибо евреи, заседающие в магистрате, вносят в расходование общественных сумм неслыханный произвол. Они тратят их не на потребности жителей, а посылают несуразно большие взносы в Иерусалим, на храм и религиозные нужды. Поэтому неудивительно, что при выборах дело всегда доходит до кровавых столкновений. С горечью вспоминают греки и римляне Кесарии о том, что, когда в царствование Ирода был основан этот город, они были первыми его обитателями, они построили гавань, доходами от которой Кесария теперь кормится. Кроме того, там резиденция римского губернатора, и притеснения, которым подвергаются со стороны евреев римляне и греки, особенно недопустимы в главном городе провинции. С самолюбием евреев, право же, достаточно посчитались, предоставив им полную автономию в Иерусалиме. Идти и дальше навстречу этому вечно недовольному народу – недопустимо. История города Кесарии, происхождение и религия большинства ее жителей, ее основа и мощь не имеют ничего общего с еврейством. И город Кесария, от которого зависят покой и безопасность всей провинции, будет горестно удивлен, если наиболее лояльная, верноподданная часть его населения не получит в конце концов заслуженных ею избирательных прав.
В своей продуманной и хитрой докладной записке министр Филипп Талассий отнюдь не умолчал и об аргументах евреев. Он указывал на то, что в случае изменения избирательного закона греко-римское население получит право распоряжаться всеми еврейскими городскими налогами, а это практически означало бы широко проведенное отчуждение средств у еврейских капиталистов. Очень ловко доказывал он, однако, насколько это зло ничтожно в сравнении с той чудовищной несправедливостью, при которой главный город Иудеи – провинции, столь важной для всей восточной политики в целом, – ныне действующим избирательным законом фактически отдавался в руки небольшой кучке еврейских богачей.
Министр перечел свою докладную записку еще раз. Тщательно проверил рукопись: его аргументы неопровержимы. Он твердо решил, он улыбается. Да, он отдаст меньшее – этих трех заключенных, чтобы зато отнять у евреев большее – прекрасный портовый город Кесарию.
Он позвал слуг, стал браниться. Велел унести грелки, одеяла, подушки. Эти дураки хотят, чтобы он задохнулся от жары? Он забегал взад и вперед на своих высохших ножках, костлявые руки ожили. Министр настойчиво потребовал на завтра утром аудиенции у императора. Теперь его путь был ему ясен, задуманное наверняка должно удаться.
Ведь он не спешил, он мог бесстрастно насладиться своей местью. Прошло несколько десятилетий с тех пор, как еврейский переводчик Феодор Заккаи улыбался. «Наблион», вот именно, и навеки «наблион». Он может подождать, пока эдикт, вырывающий у евреев присвоенную ими власть, будет подписан, но и тогда вовсе незачем его сразу же опубликовывать. Пусть документ еще спокойно полежит несколько месяцев, даже год, пока не выяснится вопрос о сроках великого Александрова похода.
Да, именно в такой форме предложит он завтра императору решить дело о Кесарии, и совершенно ясно, что в такой форме он его продвинет. Он улыбается. Еще до ужина диктует он ответ министерству просьб и жалоб в связи с запросом из кабинета императрицы относительно амнистирования евреев, приговоренных к принудительным работам на Тибурском кирпичном заводе. Как удивится толстяк Юний Фракиец, когда увидит, что министр Талассий ничего не имеет против их освобождения, решительно ничего.
За ужином гости министра с удивлением отмечают, что этот сварливый старик – хозяин дома – может быть даже веселым.
Иосиф все больше нравился Деметрию Либанию. Актер был уже не так молод, его образ жизни и его искусство отнимали немало сил, и ему казалось, что он может снова зажечься от огня, пылавшего в этом юноше из Иерусалима. И разве не встреча с Иосифом послужила толчком к тому, что он наконец выступил со своей великой и опасной идеей – сыграть еврея Апеллу? Он все чаще приглашал к себе Иосифа. Иосиф отвык от провинциальных манер, быстро усвоил своим живым умом подвижную и гибкую жизненную мудрость столицы, стал светским человеком. От многочисленных литераторов, с которыми его познакомил актер, он перенял технику, даже жаргон их ремесла. Он беседовал о политике и философии с людьми, занимавшими видное положение, вступал в любовные связи с женщинами, нравившимися ему, – с рабынями и аристократками.
Итак, Иосиф жил, окруженный уважением и удовольствиями. И все-таки, когда он оставался один, ему порой становилось не по себе. Он знал, конечно, что освобождение трех заключенных не может совершиться в одну минуту. Но проходили недели, месяцы, а он все еще ждал и ждал, как ждал когда-то в Иудее. И это ожидание изводило его: приходилось насиловать себя, чтобы не выйти из роли уповающего.
Клавдий Регин предложил Иосифу прислать свою докладную записку, которая произвела на императрицу столь сильное впечатление. Иосиф отослал рукопись и с волнением ждал отзыва знаменитого издателя. Но тот молчал. Иосиф ждал четыре долгих недели; Регин молчал. Может быть, он дал прочесть его рукопись Юсту? Сердце Иосифа сжималось, когда он вспоминал о своем бесстрастном, умном коллеге.
Наконец Регин пригласил его к обеду. Единственным гостем, кроме Иосифа, был Юст из Тивериады. Иосиф собрал все свои силы, он предчувствовал неприятные объяснения. Долго ждать ему не пришлось. Уже после первого блюда хозяин дома заявил, что он прочел Иосифову докладную записку. Форма ее говорит о бесспорном литературном таланте, но содержание, аргументация слабы. По предложению царя Агриппы Юст ведь тоже высказался о деле трех заключенных. Было бы очень любезно со стороны Юста, если бы он поделился своей точкой зрения. У Иосифа задрожали колени. Мнение целого Рима показалось ему вдруг ничтожным перед мнением его коллеги, Юста из Тивериады.
Юст не заставил себя просить. К делу трех стариков нельзя подходить вне связи с вопросом о Кесарии. А вопрос о Кесарии нельзя рассматривать вне связи с политикой Рима на Востоке в ее целом. С тех пор как на Востоке управляет генерал-фельдмаршал Корбулон, Рим если и шел на уступки, то лишь формально, по сути же – никогда. При всем уважении к литературному таланту Иосифа он не думает, чтобы на императорскую канцелярию докладная записка оказала решающее влияние, скорее – данные и выкладки финансового ведомства или генерального штаба. В докладной записке, которую он, Юст, подал по предложению царя Агриппы в Восточный отдел канцелярии, он осветил главным образом юридическую сторону вопроса о Кесарии. Он сослался на город Александрию, где Рим не поддержал происков антисемитов. Но он опасается, что министр Талассий, и без того юдофоб, да еще, вероятно, подмазанный кесарийскими греками, может, невзирая на все юридические аргументы, все же удовлетворить претензии нееврейского населения. И с точки зрения общей направленности римской политики на Востоке он, к сожалению, имеет для этого все основания.
Юст приподнялся на своем ложе; он аргументировал логично, остро, убедительно. Иосиф слушал лежа, закинув руки за голову. Вдруг он выпрямился, перегнулся к Юсту через стол, сказал враждебно:
– Это неправда, что дело тибурских мучеников – вопрос политический. Это вопрос справедливости, человечности. И я здесь – только чтобы добиться справедливости. Справедливость! Я взываю о ней с тех пор, как я в Италии. Моей жаждой справедливости я убедил императрицу.
Регин повертывал мясистую голову от одного к другому. Видел смугло-бледное худощавое лицо Иосифа, смугло-желтое худощавое лицо Юста.
– А знаете ли вы, господа, – и его высокий, жирный голос прозвучал взволнованно, – что вы очень друг на друга похожи?
Они были поражены. Каждый сравнивал себя с другим: ювелир был прав. И они ненавидели друг друга.
– Могу вам, впрочем, сказать по секрету, – продолжал Регин, – что вы спорите о деле, которое уже решено. Да, – продолжал он, глядя в упор на их растерянные лица, – вопрос о Кесарии решен… Может быть, пройдет некоторое время, пока эдикт будет обнародован, но он подписан и отправлен сирийскому генерал-губернатору. Вы правы, доктор Юст. Вопрос о Кесарии решен не в пользу евреев.
Оба молодых человека уставились на Клавдия Регина, сонно смотревшего перед собой. Они были так потрясены, что забыли и друг о друге, и о своем споре.
– Это худший выпад против Иудеи за все последнее столетие, – сказал Иосиф.
– Я боюсь, что из-за этого эдикта еще прольется кровь многих людей, – сказал Юст.
Они смолкли, выпили вина.
– Смотрите, доктор Иосиф, – сказал Регин, – чтобы ваши евреи не наделали глупостей.
– Здесь, в Риме, конечно, легко давать советы, – ответил Иосиф, и его голос был полон искренней горечи. Он сидел сгорбившись, усталый, словно опустевший. Новость, сообщенная этим противным жирным человеком, до того переполнила его сердце печалью, что в нем даже не оставалось места для унизительного ощущения, насколько смехотворна сейчас его миссия. Конечно, его соперник оказался прав, он все предвидел. А то, что нафантазировал по этому поводу Иосиф, оказалось дымом, и его успех – ничем.