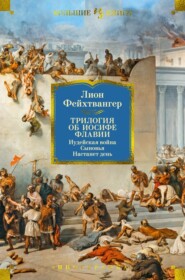скачать книгу бесплатно
Какое она поставила ему условие? «Если к тому времени, когда римляне войдут в Иерусалим, роща в Текоа будет еще зеленеть, пусть Тит делает тогда из дерева моих пиний свадебную кровать». Условие выполнено. Что он возьмет Иерусалим, в этом не может быть теперь никакого сомнения. Он приказал капитану Валенту, коменданту Текоа, срубить в роще три пинии.
Кровать может быть готова сегодня вечером. Сегодня он поужинает с Береникой наедине. Ждать дольше он не желает. И он послал людей за кроватью.
Оказалось, что кровати нет. Рощи пиний уже не существовало, приказ принца не мог быть выполнен. Тит разбушевался. Разве он совершенно ясно не повелел беречь рощу? Да, Валент приказ получил, но, когда не стало хватать дерева для окопов и валов, маршал Тиберий Александр отдал обратное распоряжение. Капитан Валент колебался, переспрашивал. Он может предъявить письменное распоряжение маршала срубить рощу вопреки первому приказу.
В чертах принца, когда он это услышал, произошла грозная перемена. Вместо ясного сурового лица солдата выступило лицо потерявшего разум, беснующегося подростка. Он вызвал к себе Тиберия Александра, рычал, шипел. Чем безудержнее бушевал он, тем холоднее становился маршал. Он вежливо заявил, что существует строжайший указ, подписанный и принцем, об обязательной доставке в лагерь всего дерева, какое только удастся добыть. Нужды войны важнее нужд отдельного человека. Во всех походах, которыми он когда-либо руководил, он всегда держался того же правила и не допускал исключений. Принц не знал, что возразить. Этот человек прав, но он ему противен, да и сам он себе противен. Жестокая боль охватила тисками его лоб и затылок. Все вокруг померкло. Он любит Беренику. Он должен довести дело до конца. И он его доведет.
Береника шла через иерусалимский лагерь, прекрасная и спокойная, как всегда. Но под внешним спокойствием кипела буря. Она считала дни, проведенные в Кесарии без Тита. Она не хочет сознаться, но ей недоставало его. С тех пор как он во главе армии, он уже не добродушный юноша с мальчишеским лицом – он мужчина, он полководец, весь отдавшийся своей задаче. Она твердит себе, что находится здесь с ним ради Иерусалима, но она знает, что это ложь.
И, вызванная Титом, она радостно отправилась в лагерь. Но когда она увидела окрестности Иерусалима, ее Иерусалима, радость угасла. Роскошная местность была словно изъедена саранчой, плодовые рощи, оливковые деревья, виноградники, загородные дома, богатые склады на Масличной горе – все было уничтожено, до ужаса оголено, вытоптано, превращено в пустыню. Когда она во время парада стояла на трибуне рядом с главнокомандующим римскими войсками, ей чудилось, будто десятки тысяч людей с городских стен и кровель храма смотрят только на нее, обвиняют ее.
Она познала многие превратности судьбы, она не сентиментальна, она привыкла к запаху солдат и военного лагеря. Но пребывание здесь, под Иерусалимом, оказалось тяжелее, чем она ожидала. Упорядоченное благосостояние лагеря и нужда там, в этом городе, задыхающемся от избытка людей, солдатская деловитость принца, любезная суровость Тиберия Александра, голая, опозоренная земля вокруг Иерусалима – все мучило ее. Она, как и принц, желала конца. Ей уже много раз хотелось спросить: «А как роща в Текоа? Цела ли роща в Текоа?» Но она не знала, хочется ли ей, чтобы ответили «да» или «нет».
В тот вечер она пришла к Титу усталая и раздраженная. Он был мрачен, горяч и зол. Она – печальна и опустошена. Воля и силы покинули ее. Она сопротивлялась слабо. Он взял ее грубо, его глаза, его руки – весь он был неистов и груб.
После того как он взял ее, Береника лежала словно разбитая, с пересохшим ртом, с неподвижным тусклым взглядом, в разорванном платье. Она чувствовала себя старой и печальной.
Принц смотрел на нее, скривив рот, лицо его казалось лицом беспомощного злого ребенка. Наконец-то он добился своего. А стоило ли? Нет, не стоило. Никакого наслажденья он не получил. Что угодно, только не наслажденье. Он жалел: зачем это сделал? Он злился на себя, ненавидел ее.
– Впрочем, если ты действительно считаешь, – сказал он ядовито, – что роща еще цела или что эта кровать сделана из ее деревьев, то ты обманулась. Они найдут для дерева лучшее применение. Твой собственный двоюродный брат приказал срубить рощу.
Береника медленно поднялась, не взглянула на него, не упрекнула. Он мужчина, солдат, и он, в сущности, хороший юноша. Виноват этот лагерь, виновата война. Все они развратятся в этой войне, станут животными и варварами. По ту и по эту сторону стен совершены все ужасы, какие можно только придумать, опозорены и земля, и Ягве, и храм. Какая-то звериная травля, как в праздники на арене, и уже не знаешь, кто зверь и кто человек. Теперь Тит взял ее помимо ее воли, он обманул ее, потом насмеялся, хотя и любит ее. Но здесь – лагерь, здесь – война. Это дикая, вонючая мужская клоака, и ей, Беренике, поделом: не надо было приходить сюда.
Она встала, разбитая, с усилием выпрямилась, одернула платье, встряхнула его, стряхивая с себя нечистоты этого лагеря. Потом ушла. У нее не нашлось для Тита ни упрека, ни привета. Но походка ее, даже в эту минуту беспредельной усталости и унижения, оставалась все же походкой Береники.
Тит уставился ей вслед, обессиленный, опустошенный. Он ведь решил вытравить эту женщину из своей крови. Он не хотел, чтобы она сорвала ему поход, его задание. Он хотел, чтобы эта женщина наконец отошла в прошлое. Затем – взять Иерусалим, и уж тогда, наступив ногой на побежденный город, решить, начинать ли ему с ней все сызнова. Отличный план, но, к сожалению, все пошло вкривь и вкось. Выяснилось, что силой от нее ничего не добьешься. Из своей крови он ее отнюдь не изгнал. Он взял ее, но это ни к чему не привело – он мог бы с таким же успехом взять любую женщину. Она дальше от него, чем когда-либо. Он напрягает свою мысль, свою память: ничего он о ней не знает. Не знает ее запаха, не знает, как она растворяется, не знает ее наслаждения, ее угасания. Она так и осталась за шестью замками, за семью покрывалами. Эти евреи сверхъестественно умны. У них есть для этого акта очень глубокомысленное и ядовитое выражение; они не говорят: жить друг с другом; они не говорят: слиться, соединиться. Они говорят: мужчина познал женщину. Нет, не познал он этой проклятой Береники. И никогда не познает, пока она ему сама не отдастся.
А тем временем Береника спешно шла по улицам лагеря. Ей не удалось найти своих носилок, и она шла пешком. Добралась до палатки. Отдала наспех, пугливо несколько приказаний. Покинула лагерь, бежала в Кесарию, покинула Кесарию, бежала в Заиорданскую область, к брату.
18 июня Тит созвал военный совет. Попытки римлян взять третью стену были отбиты. С невероятными усилиями подвели они к этой стене и к форту Антония четыре вала, чтобы установить бронированные башни, орудия, тараны, стенобитные машины. Но евреи вырыли под этими сооружениями минные штольни. Столбы штолен были с помощью смолы и асфальта подожжены и обрушились, а с ними – насыпи и орудия римлян. Сооружения, воздвигнутые с таким трудом и риском, погибли.
На военном совете царило нервное и озлобленное настроение. Более молодые начальники требовали во что бы то ни стало решительной атаки. Это был прямой, хоть и крутой, путь к триумфу, о котором все мечтали. Пожилые офицеры не соглашались. Идти на приступ отлично оборудованной крепости, которую защищают двадцать пять тысяч исступленных солдат, не имея бронированных башен и таранов, – не шутка, и даже в случае удачи это будет стоить огромных потерь. Нет, хоть это и очень нудно – остается только одно: строить новые дамбы и валы.
Наступило сердитое молчание. Принц слушал говоривших грустно, внимательно, не вмешиваясь. Он спросил маршала о его мнении.
– Если нам будет казаться, что время до общего штурма тянется слишком долго, – отозвался Тиберий Александр, – то почему бы нам не сделать его слишком долгим и для противника?
С любопытством, не понимая, смотрели остальные на его тонкие губы.
– Мы получили вполне достоверные сведения, – продолжал он тихим, вежливым голосом, – да и видим собственными глазами, что в осажденном городе голод все растет, и он является нашим союзником. Я предлагаю вам, ваше высочество, и вам, господа, решительнее использовать этого союзника, чем мы делали до сих пор. Я предлагаю усилить блокаду. Я предлагаю возвести вокруг города блокадную стену, чтобы даже мышь не могла проскользнуть ни в город, ни из города. Это – первое. Затем – дальше. Мы до сих пор каждый день гордо публиковали списки тех, кто, несмотря на все меры, предпринимаемые осажденными, все же перебегает к нам. Мы обращались с этими господами очень хорошо. Думаю, что это больше делает честь нашему сердцу, чем здравому смыслу. Я не вижу, зачем нам снимать с господ в Иерусалиме заботу о пропитании такой значительной части населения. Как можем мы проверить, действительно ли эти перебежчики – мирные граждане или они сражались против нас с оружием в руках? Предлагаю вам, ваше высочество, и вам, господа, отныне считать всех перебежчиков военнопленными, бунтовщиками и все дерево, которое мы можем добыть, употребить на кресты для распятия этих бунтовщиков. Надеюсь, что подобная мера побудит еще не перешедших к нам оставаться за своими стенами. Уже большая часть осажденных садится за пустые столы. И я надеюсь, что скоро все, даже войска их, окажутся за пустыми столами. – Маршал говорил тихо, очень любезно. – Чем суровее мы будем вести себя в ближайшие недели, тем больше гуманности сможем проявить в следующие. Я предлагаю вам, ваше высочество, и вам, господа, приказать капитану Лукиану, начальнику профосов, не допускать никакой мягкости при распятии бунтовщиков.
Маршал говорил, ничего не подчеркивая, словно вел обычную застольную беседу. Но пока он говорил, стояла глубокая тишина. Принц был солдатом. И все-таки он изумленно смотрел на еврея, предлагавшего столь легким тоном такие суровые меры в отношении своих соплеменников. Никто в совете не возражал против предложений Тиберия Александра. Было постановлено строить блокадную стену и всех перебежчиков предавать распятию.
Со стен форта Фасаила вожди Симон бар Гиора и Иоанн Гисхальский наблюдали, как росла блокадная стена. Иоанн полагал, что она тянется на семь километров, и показывал Симону тринадцать пунктов, где, по-видимому, закладывали башни.
– Препаршивый прием, брат мой Симон, не правда ли? – спросил он, зловеще осклабившись. – Этого вполне можно было ожидать от старого лисовина, но молодой – он так хвастает мужественностью и военными добродетелями своего войска – мог бы избрать способы поблагороднее. Ну что ж! Теперь мы будем жрать стручки и даже того хуже.
Блокадная стена была закончена, а дороги и вершины холмов вокруг Иерусалима обросли крестами. Профосы выказывали большую изобретательность в придумывании новых положений для казнимых. Они прибивали распинаемых так, что ноги оказывались наверху, или привязывали их поперек креста, изощрялись, вывихивая им руки и ноги. Из-за мероприятий римлян число перебежчиков сначала сократилось. Но затем голод и террор в Иерусалиме стали расти. Многие понимали, что они погибли. Что разумнее? Оставаться в городе, все время имея перед глазами совершаемые маккавеями преступления против Бога и людей, и умереть с голоду или перейти к римлянам и быть распятыми ими? Гибель ждала и в городе, и за его стенами. Когда камень падает на кувшин, горе кувшину. Когда кувшин падает на камень – горе кувшину. Всегда, всегда горе кувшину.
Число тех, кто предпочитал смерть на кресте смерти в Иерусалиме, все росло. Редкий день проходил без того, чтобы римляне не приводили в лагерь несколько сотен перебежчиков. Скоро уже не хватало места для крестов и не хватало крестов для человеческих тел.
Стеклодув Нахум бен Нахум проводил большую часть времени, лежа на крыше дома на улице Торговцев мазями. Там же лежали жена Алексия и его двое детей, так как под открытым небом голод ощущался не так остро. Когда они стягивали одежду или пояс очень туго, тоже становилось легче, но ненадолго.
Нахум бен Нахум сильно похудел, его густая борода уже не была ни выхоленной, ни четырехугольной, и в ней появилось много седых нитей. Порой его мучила царившая в доме тишина, так как истощенным людям не хотелось разговаривать. Тогда Нахум переходил узкий мост, который вел от Верхнего города к храму, и навещал своего родственника, доктора Ниттая. На священников восьмой череды – череды Авии – сейчас как раз пал жребий совершать служение, и доктор Ниттай жил и спал в храме. Его неистовые глаза ввалились, обычное напевное бормотание с трудом вырывалось из обессилевших уст. Удивительно еще, как этот высохший человек мог держаться прямо, но он держался. Да, он был даже менее скуп на слова, чем обычно, он не боялся за свой вавилонский акцент: он был счастлив. Весь мир – сеть и западня, безопасно только в храме. Возносился душой и стеклодув Нахум; он видел, что, несмотря на окружающее несчастье, служение в храме шло, как всегда, с тысячью тех же пышных и обстоятельных церемоний, с утренним и вечерним жертвоприношением. Весь город погибал, но дом и стол Ягве был так же пышен, как века назад.
Из храма стеклодув Нахум нередко шел на биржу, на «Киппу». Там собирались граждане, по старой привычке, несмотря на голод. Правда, теперь торговались уже не из-за караванов с пряностями или судов с лесом, а из-за ничтожных горсточек пищевых продуктов. Из-за одного-двух фунтов прогорклой муки, щепотки сушеной саранчи, бочоночка рыбного соуса. К началу июня вес хлеба приравнивался к весу стекла, затем к весу меди, затем серебра. 23 июня за четверик пшеницы, то есть за восемь и три четверти литры, платили сорок мин, а еще до наступления июля – уже целый талант.
Правда, эту торговлю приходилось производить втайне, ибо военные власти давно реквизировали все пищевые продукты для армии. Солдаты обшаривали дома вплоть до последних закоулков. Щекоча жителей своими кинжалами и саблями, они под грубые шутки вымогали у них последние унции съедобного.
Нахум благословлял своего сына Алексия. Что бы с ним сталось без него! Он кормил всех жителей дома на улице Торговцев мазями, и отец его получал наибольшую долю. Нахум не знал, где Алексий держит свои запасы, и не желал этого знать. Однажды Алексий вернулся домой расстроенный, из глубокой раны текла кровь. Вероятно, на него напали рыщущие повсюду солдаты, когда он извлекал какие-нибудь запасы из своего тайника.
Охваченный до самых глубин своего существа страхом и горем, сидел стеклодув Нахум возле ложа своего старшего сына. Тот лежал без сознания, слабый и бледный. Ах и ой! Почему он раньше не послушался сына? Его сын Алексий – один из умнейших людей на свете, и он, его собственный отец, не осмеливался признать себя его единомышленником только потому, что верхушка правящих страной сменилась. Но теперь и он уже не будет молчать. Когда его сын Алексий выздоровеет, он пойдет с ним к Желтолицему. Ибо, несмотря на весь террор, из запутанной системы подземных ходов и пещер под Иерусалимом выныривали все новые пророки, проповедуя мир и покорность, и снова исчезали в этом подземном царстве, раньше чем маккавеи успевали их схватить. Нахум был убежден, что его сын хорошо знаком с вождем этих пророков. С тем самым темным и загадочным человеком, которого все называли просто Желтолицым.
Нахум был полон такой злобы против маккавеев, что почти не чувствовал голода; страшное волнение вытеснило голод. Его ярость обрушилась прежде всего на сына Эфраима. Правда, юноша Эфраим делится с отцом и семьей пищевыми продуктами из своего обильного солдатского пайка, но в глубине души Нахум опасался, что именно Эфраим натравил солдат на след Алексия. Это подозрение, а также скорбь и сознание собственного бессилия сводили с ума стеклодува Нахума.
Алексий выздоровел. Но голод становился все свирепее, скудная пища была однообразной, лето – жарким. Умер младший сынишка Алексия, двухлетний, а через несколько дней и старший, четырехлетний. Младшего еще удалось похоронить как положено. Но когда умер четырехлетний, то умерших было уже слишком много, а люди так обессилели, что пришлось просто сбрасывать тела в окружавшие город ущелья. Нахум, его сыновья и невестка принесли тельце мальчика к Юго-восточным воротам, чтобы капитан Маной бар Лазарь, который ведал погребением умерших, велел его сбросить в пропасть. Нахум хотел сказать надгробное слово, но так как он очень ослабел, то у него в голове все спуталось, и, вместо того чтобы говорить о маленьком Яннае бар Алексии, он сказал, что капитан Маной уже похоронил сорок семь тысяч двести три трупа и тем самым заработал сорок семь тысяч двести три сестерция, на что может купить на бирже почти два четверика пшеницы.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: