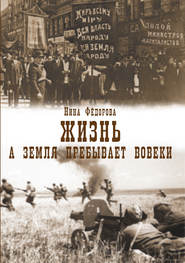скачать книгу бесплатно
Трепетала, словно лань,
Но всегда шептать привыкла
Слово гордое: восстань!
Белым шёлком красный мечу,
И сама я в грозный бой
Знамя вынесу навстречу
Рати вражеской и злой!
«Гимн швеи» имел успех. Было предложено внести его в предполагаемый к изданию сборник «Певцы Революции». Отныне пением этого гимна открывали свои митинги городские швеи. Полина им читала доклады на тему о гнилостности буржуазной морали. Свою речь она обильно уснащала примерами из прошлой жизни города, называя имена и фамилии. «Сама тому свидетель», она подымала л и ч н у ю злобу и жажду отмщения в слушательницах.
Учитель Свинопасов подал заявление, что хотел бы сдать кому-либо другому должность представителя и хранителя культурных достижений города.
– Я теоретик, товарищи, книжник, так сказать, и практическая сторона моих обязанностей совершенно ускользает от меня.
Переглянувшись со снисходительным презрением, комитет освободил учителя, передав должность ученику восьмого класса гимназии, чей отец был рабочий, мать – крестьянка, что делало его квалифицированным для должности. Учитель же запил.
Не принявшие революцию действовали по-своему. Мать дьякона Анатолия пошла по святым местам, пешком, с холщовой сумою через плечо – «замаливать грехи». Жена его назначила себе ежедневных девять акафистов и молитву в полночь. Страдая печенью, она изнемогала от печалей и болей.
Город опускался, болел, голодал. Днём и ночью шли и организованные, и «любительские» грабежи. Убийства сделались ежедневными событиями.
– Нет, так не может больше продолжаться! – всё чаще поднимались возмущённые протесты.
– Что-то надо предпринять, что-то сделать!
– Но что?
Восстановить суд, полицию, тюрьму? Отказаться от завоеваний революции? Ни за что! Больше того: положение выправит мировая революция. Она вот-вот произойдёт! Вы слышите её приближение? Она идёт – и тогда!..
Глава III
Звуки революционных лозунгов и песен редко долетали до «Услады». Процессии были нечасты на окраине города.
Когда эхо доносило отзвуки революционных маршей, Мила наблюдала за тем, что происходило на большой дороге. Она выглядывала между колонн высокого балкона или из-за опущенных тюлевых штор малой гостиной.
Генеральша проводила дни в молитве, запершись у себя, отказываясь от пищи: она знала, что оба сына её – офицеры – подвергаются смертельной опасности. Тётя Анна Валериановна с самого начала взяла немногословный, но высокомерный, презрительный тон ко всему, что касалось революции.
Когда в «Усладе» были получены бланки для голосования в Учредительное собрание, она за утренним кофе прочла вслух имена кандидатов и заключила:
– Если предлагается выбирать между парикмахером Оливко и портнихой Смирновой, я предпочитаю молчать. Отдайте списки прислуге: на кухне нужна бумага.
– Но разве нет кандидатов от консервативных партий? Например, от кадетов?
– Здесь предлагается какой-то лавочник – Фома Камков, якобы представитель прежнего строя. Но кто он? Мы, живя всю жизнь здесь, никогда не слыхали о нём. Мошенник какой-нибудь.
– Странно, тётя! Но где все те, кого мы знали?
– Убиты на войне, я полагаю.
– Но не все же убиты.
– Остальные, как и мы, остаются в стороне, потому что не верят, будто революция осчастливит Россию.
Мы уже видим плоды – и голод, и холод, и бесправие, и беспорядок.
– Но попробовать этому помочь…
– Сейчас невозможно. Революция перекипит, конечно, но сейчас это кипение стихийно, его уже не остановить. Так вот, среди кандидатов нет ни одного человека, в ком я была бы уверена, что он не украдёт кошелька, если я забуду его здесь, на столе. Как же я могу голосовать, чтобы этих людей допустили до государственной казны!
Её слова заключили дело: никто из Головиных не голосовал.
Но жизнь осложнялась всё больше. Было уже совершенно ясно, что даже и Головины не могут дольше держаться в стороне от событий, ни во что не вмешиваясь, только молясь и надеясь, что всё как-то устроится и уляжется само собою.
Желанная или нет, революция подбиралась к «Усладе». Над усадьбой постепенно собирались тёмные тучи.
Эти три женщины – Головины – были, конечно, совершенно одиноки теперь и беззащитны. Редко кто заходил к ним, чтоб спросить о здоровье и побеседовать. Их прежних друзей в городе почти не осталось. Исчезли все радости и приятности жизни, подымались и всё возрастали заботы. Всё труднее делалось доставать пищевые продукты. Ездить за ними надо было в деревню, их же единственная теперь лошадь превращалась в старую клячу, которая тосковала одиноко в великолепных пустых конюшнях. Дамы Головины обсуждали такие практические вопросы: не купить ли корову, не завести ли кур. Кухарка Мавра Кондратьевна стала центральной фигурой в таких обсуждениях, и её советы внимательно слушали. По всем поручениям посылался кучер или горничная Глаша: сами Головины больше не выходили из «Услады». Кухарка тоже не выходила, даже и за калитку, желая держаться «подальше от греха».
Всё темнее делалась жизнь, всё страшнее слухи.
– Солдаты убили капельмейстера… помните, того самого, что бывал у нас с оркестром на праздниках, – захлёбываясь, докладывала Глаша, вернувшись из города.
– Убили? За что?
– Да ни за что! – удивлялась Глаша. – Теперь же революция!
Люди вдруг исчезали, неизвестно почему, неизвестно куда, и оставшимся было не до того, чтоб спрашивать о них или их разыскивать. Ночью, слыша выстрелы, обыватель говорил:
– Слышите? Убивают кого-то.
Три одинокие женщины и трое слуг, из которых один только был мужчина, – вот и всё население «Услады». Страшно было оставаться в ней, не менее страшно было её покинуть.
Теперь и у Милы были обязанности по хозяйству.
Получив прекрасное, по понятиям Головиных, образование, Мила о практической стороне жизни – увы! – не знала ничего. Родители и школа старательно ограждали и оберегали её от соприкосновения с нею.
Всё, что Мила знала о пище, было: в известные часы прислуга приносила её в столовую.
Теперь ей открылась голая истина: вопрос о жизни был прежде всего вопросом о пище. Нужно было иметь её, чтоб есть, и сегодня, и завтра, и послезавтра, всю жизнь, от часа рождения до часа смерти. Эту пищу надо было где-то добыть, как-то ею себя обеспечить.
– Если в городе всё это достать трудно, может быть, перейти на систему натурального хозяйства: огород, фруктовый сад, корова, куры. Это даст нам мясо, яйца, молоко, сметану, масло, салаты и десерт.
Но тут возникали новые трудности. Куры, прежде чем нести яйца, должны были сами покушать, то же самое с коровой, её молоком и маслом. Следовательно, надо будет ездить в деревню в поисках корма. Но, прежде чем ехать, кучер должен был позавтракать и хорошо накормить лошадь. Кухарка, приготовив ему пищу, должна была поесть сама и ещё накормить Глашу – всё это чтоб раздобыть пищу для трёх дам Головиных. Мила терялась в расчётах. Это был заколдованный круг: надо было и м е т ь пищу, прежде чем возможно было добыть её.
Открывшаяся Миле истина, что жизнь поддерживается исключительно благодаря регулярному приёму пищи, оказывалась верной и в отношении собаки, кошки и попугая.
Решено было расстаться прежде всего с попугаем. Вместе со своей золочёной клеткой он был отдан одинокой вдове, тоже генеральше, которая взяла его с радостью, с нежной заботой, чтоб не быть совсем одинокой на закате дней. Павлин Данте, имевший отдельное помещение – маленький изящный домик на границе сада в парке, начал терять свои перья и затем тихо скончался, без упрёков, без жалоб. Его простенькая, серенькая курочка, потрясённая внезапным одиночеством, тоской, недостатком пищи, плохим уходом, безропотно последовала за ним. Уже давно съедены были утки, гуси и куры. За годы войны Головины ничего не добавляли к хозяйству, наоборот, стремились сократить его. Огород больше не возделывался. Фруктовые деревья давно не имели ухода. Садовники были взяты в солдаты. Старые слуги, прежде жившие в помещении для престарелых, отчасти поумирали, а оставшиеся в живых были отданы в городскую богадельню.
В «Усладе» жило всего шесть человек, но и для этих шестерых вопрос о пище становился тяжкой задачей.
Не то что у Головиных не было денег или вещей для обмена: деревенские жители неохотно расставались с провизией. Деревенский житель уже предвидел наступление всероссийского голода.
Жизнь угасала в «Усладе». Не вносили в неё оживления и редкие визитёры, старые друзья. Женщины в глубоком трауре приходили, чтоб «вспомнить и поплакать вместе». Это были вдовы военных, жёны убитых мужей, матери без вести пропавших сыновей, они видели пророческие сны, гадали и по Евангелию, и на картах, лихорадочно ожидали, что вот-вот восстановится почтовое сообщение и придут наконец хорошие вести. Приходили и иные, уже смирившиеся с судьбою, взявшие крест и покорно его нёсшие, молчаливые, спокойные, не здешним, а каким-то уже загробным покоем.
Мужчины, преимущественно старые военные, прежние друзья покойного генерала, приходили, чтобы вспомнить былое и поговорить о будущем. Среди них были и оптимисты: они не верили, чтобы революция могла долго ещё продолжаться. Они вынимали из карманов записные книжки, где ими были высчитаны и вычерчены диаграммы и кривые прошлых революций Европы. Они назначали сроки, когда кончится… Терпение! Терпение! По их словам, революция всегда явление временное. Затем восстанавливается порядок. Жизнь входит в нормальное русло. И возвращается прошлое.
В «Усладе» было два центра разговоров: кухня и малая гостиная.
Революция надолго? – вопрошали в гостиной. – Оливко – управляющий губернией? Это смешно! Это нелепо! Целый город не может совершить над собой самоубийства. Я допускаю: революция – свершившийся факт. Но почему? Роль сыграла неудачная война. Но война – явление случайное, проходящее. Она пройдёт – пройдут и её следствия. У революции нет г л у б и н ы, поймите это. Заметьте: она развивается, но исключительно на поверхности – как накипь на супе, – она бурлит, но в вопросах чисто материальных. Но – внимание! – изменился ли дух народа? Изменился ли сам человек? Нисколько! Он фундаментально тот же. Он бунтует? Он у ж е побунтовал – и вернётся к прежней, привычной и обжитой рутине. Он возжаждет покоя и порядка! Он возопиет о нём!
– Коммунизм в России! Вы видите это? Вы можете это вообразить: коммунизм и мы! коммунизм и наша старая няня! коммунизм и мой сапожник! – восклицал другой «знаток жизни и человека» и тут же заливался старческим смехом, переходившим в старческий кашель. – Ха-ха! Кхи-кхих! Сказки! Мираж! Химеры! Коммунизм – иностранное слово. Русский мужик не успеет ещё научиться его произносить, как он пройдёт. А Россия – это прежде всего многомиллионный мужик. Безумец, кто не видит этого. Был Пётр, издавал запреты – а мужик и по сей день носит армяк и расчёсывает бороду.
– Согласен с вами, – перебивал первый старичок. – И добавлю от себя: русский мужик скрытен. Фактически: кого он любит? Бога? Царя? Революцию? Комиссара? Нет: он любит землю. Он из «неё взят», он тайно молится ей одной. Дайте ему землю – и на тысячелетие в России воцарится покой.
– Да, но у вас нет с о б с т в е н н о й земли, – возражала помещица, – и вы согласны, конечно, её раздавать. Но мы, но я, помещица, – мы т о ж е любим нашу землю…
– Постойте, постойте… – перебивал мрачный господин, бывший судебный следователь, – главное – ожидать спокойно. Когда этот многомиллионный пахарь поймёт, что пашет не свою землю и не для себя, что государство – хозяин, а он – опять крепостной, – вот это и будет момент!.. Наша задача – дожить…
– Но когда? – восклицали нетерпеливые. – Кто скажет, кто обнадёжит: когда?
– Я скажу! Я обнадёжу!
И из тёмного угла подымалась огромная тучная дама. До революции она была просто дамой, любившей сплетничать, играть на мандолине и есть блины. После революции она вдруг стала ясновидящей.
Из огромной атласной чёрной сумки она вынимала замасленную Библию в чёрном переплёте.
– Вонми, небо, и возглаголю! – произносила она в виде вступления. – Внимайте: Пророк Даниил.
«…И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге…»
«…А ты, Даниил, сокрой словасии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают её, и умножится ведение». Теперь г л а в н о е! Внемлите, господа!
«…Со времени прекращения е ж е д н е в н о й ж е р т в ы (понимать надо – раскол революционных властей с церковью)… пройдёт т ы с я ч а д в е с т и д е в я н о с т о д н е й. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трёхсот тридцати пяти дней». – И закрыв Библию, дама возглашала торжественно: – Теперь вы з н а е т е, к о г д а!
– Поразительно! – раздались голоса. – Даже имя: великий князь Михаил Романов – записано в книгах. Очевидно, пророк имел в виду сословные книги, дворянские… Мы – наиболее гонимое сословие…
Вынимались записные книжки и карандаши, начиналось вычисление дней и спор, от какого же события начинать счёт дней.
Когда разговор принимал подобные обороты, тётя Анна Валериановна под каким-нибудь предлогом отсылала Милу из гостиной, а потом ей говорила:
– Что бы ни случилось в твоей жизни, Мила, держись реализма, трезвого разума – и помни: самые непоправимые ошибки совершает человек, когда руководится воображением. Помни это.
В гостиной всегда находились и пессимисты.
– Всё это отлично, но как терпеть, как дожить? Система террора…
– О, дорогой мой! Полноте! Террор – это система запугивать. Но ведь в России есть и бесстрашные люди. История страны доказывает это. Как можно, каким это террором можно запугать миллионы здоровых и нормальных людей! Поверьте, тут никаких страхов не хватит!
– Возьмите и психологическую сторону. Всякое правительство ищет быть любимым, ищет быть уважаемым. Оно поймёт, что мерами террора оно не сможет достигнуть этого!
– Да и к тому же… после всех свобод и радостей революции – вдруг поднести кулак к носу народа! Дать ему террор! Это было бы признанием собственного морального банкротства. Да это был бы м и р о в о й позор! Я уверен, ни один вождь революции не пойдёт на это!
– Итак, всё, что нужно нам в настоящий момент, – это терпение. Терпение и вера, терпение и надежда. Пусть перекипит революция! Бывали революции и прежде. Перекипит и сама собою остынет.
В кухне вопрос ставился иначе.
– Землицы нам дали! Слава Те, Господи! – крестился кучер. – Сам был на митинге, где давали, сам слышал. Так и сказал тот человек: «Новый закон – земля ваша. Кто пашет, тот и владеет. Берите всяк, кому сколько требуется для хозяйства. Владайте! Слава Те, Господи! – крестился он снова. – Награди их, Господи, за милость! Здоровья им и Царства Небесного! Вот и собираюсь в деревню, и узелок мой готов. Ты же, Мавра Кондратьевна, собери-ка мне снеди. Спешить, спешить надо! Потому полагаю развести скота, и как же тут без сена, без пастбища? Да ещё там и дворик господский с колодцем, очень мне к месту, рядом совсем. Вот и водица для скота-то! Как же без воды – поить надо!
– А кто из. господ там – во дворике с колодцем? – иронически спрашивала кухарка.
– Вдова – барыня. Ну ей одной зачем воды да земли столько! Одной-то.
– А как она не отдаст дворик-то?
– Как не отдаст! Сказано на митинге: «по потребностям», мне то есть. Для скота же – потребность.
– А вдову куда же?
– То дело не наше. Вдове найдётся место, полагать надо. Место найдётся. Ну, в город уедет, как она не пашет сама-то в деревне. Так и сказано было: каждый на своём труде – и да ест!
– Ну, а как придёшь ты в деревню, а лужок да и дворик с колодцем другой уже мужик взял, для скота тоже, – безжалостно терзала его сомнениями кухарка.
– Не дай Бог! Да и невозможно это. Новости не скоро доходят до нашей деревни. Новости же ныне все из города. Сейчас я узнал, завтра в дорогу. Барин Оливко и бумагу мне дал – на землю по выбору, чтоб всё по закону. Я первый в деревню приду! Первый и возьму. А там отнять у меня уж пусть кто только попробует! Моя землица – навеки. Как и сказано было во всеуслышание народное: земля тому, кто сидит на ней, сидит на ней и пашет.
– Так-так, – вздохнула кухарка, принципиально не ходившая на митинги. – Ну, а про нас что было сказано? Нам что дают?
– Вам вроде как бы так: ты – за барыню, а барыня – генеральша – вроде как бы на твоё место.
– В кухню?
– Вроде бы… А вам обедать отнюдь не на кухне, в барской столовой.
– Вот мне нравится это! – воскликнула Глаша. – Столовая у нас красивая. Мне надоело в этой кухне…
– Ты мою кухню не хай, – предостерегающе прикрикнула кухарка.
– А кто обед подавать будет? – интересовалась Глаша.
Кучер помолчал, подумал.
– Подавать будет, должно быть, барышня наша, Людмила Петровна.
– А откуда деньги на продукт? – мрачно допытывалась Мавра Кондратьевна.
– Деньги, должно, от государства, – размышлял кучер. – Сказано: нужды народные государство снабжает.
– Тут уж я не поверю! – соображала кухарка. – У государства деньги откуда? Единственно от народа. Сказки! Нигде не видано, чтоб государство деньги давало. Государство деньги собирает. И потому налоги.
– Ну, теперь другое государство. Оно – не по-старому. В том-то и вся штука: по-новому, для народа исключительно. Сказано: чуть что, обидели тебя – неси жалобу.
– Кому нести?