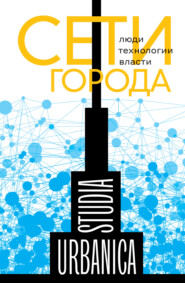
Полная версия:
Сети города. Люди. Технологии. Власти
На невозможность подтвердить факт оповещения или отправку фотографий – то есть на бесконтрольность приложения, – пользователи СМ жаловались с самого начала. Это отсутствие обещало быть фатальным для тех, кто оспаривал необоснованные штрафы в суде. Остальных оно тревожило и раздражало, оставаясь источником неопределенности. Через полгода после перехода на СМ – в версии 1.9 от 2 ноября – функцию добавили для iOS. Месяц спустя она стала частично доступна для смартфонов с Android. Но качество ее работы тут же вызвало нарекания, поскольку возникли задержки и сбои в регистрации времени отправки фотографий[395], чреватые штрафом. А история поступления пуш-требований – бывает, что штрафы начисляют за пропуск уведомлений, которые до пользователя так и не дошли, – по-прежнему отсутствует в числе функций приложения[396]. Один из ранее приговоренных к СМ, «ради интереса зашел почитать, что люди в комментах пишут. А пишут то же самое. Значит, изменений нет и не будет»[397].
Уже в конце первого месяца сосуществования москвичей с СМ глава ДИТ уклонился от публичного обсуждения негативных аффордансов приложения и официально заявил, что «ни один штраф не начислен из‐за ошибок» в его работе[398]. Государственная дума, по сути, поддержала позицию мэрии[399], отклонив предложение Совета по правам человека о проведении административной амнистии по этим штрафам[400]. Мэр Москвы заявил, что приложение будут использовать и впредь[401], оставив без внимания доводы председателя СПЧ о недопустимости использования приложения, не готового к внедрению. Михаил Федотов настаивал на том, что «такие» – репрессивные, действующие от имени государственного контролера, – системы «должны быть идеально отлажены» и «не вызывать раздражения»[402].
Раздраженный пользователь как (цифровой) гражданинМежду тем, как признается Irina P., «приложение вызывает только раздражение, если честно»[403]. Эту эмоцию, востребованную в ковидном году, поп-психологи связывают с бессознательным, а социологи, политологи и блогеры – с реакцией россиян на актуальное состояние государственной власти и (без)действие ее представителей. Раздражение проявляется как эмоциональная (негативная, острая, ситуативная, неструктурированная) реакция эго и гражданина на неразрешенный конфликт. Свою потребность в структурировании впечатлений от СМ и канализации аффекта москвичи выражают в отзывах, размещаемых в интернет-магазинах, торгующих мобильными приложениями. К 1 декабря СМ получил 8500 негативных отзывов и единицу – средний рейтинговый балл, минимальный из возможных, – на Google Play[404]. И 4200 отзывов (частью – на английском) со средним баллом 1,4 на AppStore[405]. Кому-то из пользователей не хватило шкалы для выражения чувств: «Если бы можно было поставить минус пять звезд!» В ситуации, когда адекватной реакции от мэрии не поступало, до Главконтроля было не дозвониться, а обращение в суд требовало времени и ресурсов, GooglePlay и AppStore превратились в пространства гибридного низового сопротивления[406], где раздраженные москвичи отстаивали свое право на достоинство и цифровое гражданство.
Этому превращению способствовала гетерогенность СМ, в котором цифровой продукт неотделим от инструмента надзора, а электронный сервис – от технологии биобезопасности. Не разводя администрирование и потребление, пользователи реагировали на неэффективные действия московской цифровой власти как на некачественные товары и услуги – рекламациями, размещенными в интернет-магазине. Эти претензии отличаются от жалоб в официальные инстанции не только адресатом, но и жанром коммуникации. Они имеют вид требований, поддерживают клиент-центрированный дискурс и агентность потребителя, уверенного в своих правах[407]. От GooglePlay и AppStore москвичи требуют удалить ненавистное приложение, «нарушающее основные права и свободы личности под предлогом борьбы с пандемией»[408]; от разработчиков – доработать; от заказчиков из мэрии – сменить разработчиков и проявить наконец уважение к людям.
Требования, сформулированные потребителями, полны гражданского негодования. Пользователей СМ возмущает необходимость и невозможность доказывать свою невиновность; раздражает дискомфорт, вызываемый программным кодом; смущает качество инструментария, предназначенного для цифрового администрирования; тревожат инкарцерация в собственном жилище («мы не в тюрьме и не в больнице») и ограничение гражданских свобод. Приложение называют «тоталитарным», а среду его использования – «электронным концлагерем». Для того чтобы сделать такие выводы, кому-то достаточно первых часов взаимодействия с СМ, а кому-то – полного цикла самоизоляции. При этом гражданин, если он пробуждается в пользователе СМ, уязвлен и затронут дисфункциональностью гибридного устройства куда сильнее, чем потребитель, откликающийся, пусть и не без раздражения, конкретными предложениями на отдельные дефекты: «Во-первых, это издевательство! Это ущемление прав человека! Вторжение в частную жизнь! Во-вторых, нельзя было продумать хотя бы какой-то отчет о принятой фотографии?!» В ходе контакта с дефективным приложением гражданская позиция актуализируется в неразрывной связи с позицией раздраженного потребителя, выступая в качестве ее расширения, дополнения, обобщения или эффекта политической возгонки: «Вставать к 9 утра, серьезно? И вот на это идут мои налоги? Не знаю, как вы, а я за действующую власть голосовать не буду»[409].
В тексте «Умного города – 2030» есть упоминание о том, что в 2018 году 5 тысяч жителей столицы приняли участие в опросе, приуроченном к разработке этой целевой программы: «Больше всего москвичи ценят цифровые технологии за экономию времени, доступность услуг с любых устройств в любое время и простоту навигации»[410]. Приоритетной сферой для интенсивного применения цифровых технологий 62 % опрошенных назвали медицину. И только 4 % высказали озабоченность влиянием технологий на свою жизнь, опасаясь «сбоев и ошибок в работе цифровых сервисов»[411]. Если бы этот опрос проводился в 2020 году, а его участников набирали из числа горожан, «оштрафованных за то, что заболели», результат, очевидно, был бы иным. И дело здесь не только в том, что негативные аффордансы самоизоляции вынудили москвичей в корне пересмотреть свои позиции по вопросу о цифровом городе. Сбои в работе СМ деавтоматизировали – и, как следствие, политизировали – взаимодействие горожанина с алгоритмически опосредованной властью.
Основанием для использования этого мобильного приложения стала асимметричная технократическая логика – недоверие администратора к недисциплинированным москвичам, сочетающееся с доверием к алгоритмам и данным с мобильных устройств. Сергей Собянин продемонстрировал ее в действии, когда сказал, что без СМ «реально заболевшие люди ходили бы по улицам, магазинам»[412]. Возможно, мизантропические предположения градоначальника о ненадежной природе московского человека верны. Не менее вероятно, что мечты технократов из мэрии могли бы сбыться, работай приложение без сбоев и безосновательных штрафов, будь его интерфейс адаптирован под человека, хворающего и скверно себя чувствующего. И тогда бы электронная технология обеспечила повышение качества жизни москвича, находящегося на домашнем карантине, скрыв за интерфейсом комфорта и недоверие власти, и процесс замещения индивида данными.
Незаметного превращения индивида в дивидуума не произошло из‐за неотлаженной работы СМ. Стремясь не пропустить тихое пуш-уведомление, пользователь не расставался с телефоном, постоянно заглядывая в приложение. Для человека с жаром, низкой сатурацией или берушами, без которых не заснуть, поскольку супруг(а) храпит, такое существование вряд ли будет удобным или фоновым. В отличие от дивидуума, возникающего в результате замены человека – его действий и идентичности – данными, москвич в самоизоляции восполнял и отсутствующие функции мобильного приложения, и недостающие данные: «Звонок в техподдержку на всякий случай записал, скриншот с установленным приложением сделал». Или: «Нет возможности сохранять фото (приходится делать скрины фото и подтверждение отправки, хотя бы так перестраховаться с временными метками и адресом)». Еще одним проявлением сознательного обращения москвичей со своими данными стали запросы записей с камер наружного наблюдения: «Сейчас, чтобы оспорить эти штрафы, я пытаюсь собрать записи с камер, установленных в подъезде. Я обратился в Единый центр фиксации видеонаблюдения, мне готовы предоставить видео за те дни, когда мне выписывались штрафы».
Результат этой деавтоматизации – политизация. Москвич, находящийся на СМ, действует, используя цифровые технологии для защиты себя от ненадежных инфраструктур электронного надзора. Он настаивает на том, чтобы UX-дизайн мобильных приложений, с помощью которых действует городская власть, был гуманным. Считает необходимой разработку софта, адаптированного под пользователей с особыми или ограниченными возможностями. Требует защиты от технических сбоев и нестабильностей. В спорных случаях предлагает использовать облегченные протоколы деавтоматизации[413]. Наконец, настаивает на прозрачности цифровой власти, ее открытости для оптимизации. В сумме этих требований и позиций мы видим заявку на цифровое гражданство.
Если где-то и происходит замещение человека алгоритмом, так это в коммуникации московских властей с раздраженными пользователями в интернет-магазинах приложений. Когда в майском интервью руководитель ДИТ говорит, что «на каждый отзыв, который публикуется в AppStore и Google Play, мы отвечаем, разъясняем»[414], важно понимать, что за административным «мы» стоят боты и типовые ответы на многообразие душераздирающих отзывов тех, кто пострадал от мобильного приложения. На AppStore действует бот под именем «Разработчик», а на Google Play – «Информационный город ГКУ». Это они благодарят за предложения; сообщают о постоянной работе по улучшению приложения; разъясняют необходимость проверки самоидентификации; просят не беспокоиться из‐за постоянной передачи данных о геолокации; переадресуют в техническую поддержку; а с недавних пор – информируют о том, что «в текущей версии данный функционал не предусмотрен». Судя по частоте появления этого ответа, боты из ДИТ все чаще видят в москвичах неудобных рационализаторов, которых следует исключить из техносоциальной коммуникации. Тогда как москвичи видят в ботах собеседников, регулярно вступая с ними в эмоциональный диалог:
«Благодарим за Ваш отзыв, мы постоянно работаем над повышением качества электронных сервисов для жителей. Команда разработчиков сервиса СМ рассмотрит Ваше предложение. НЕ РАБОТАЕТЕ вы!!! А вот еще новая отписочка: В текущей версии приложения такой функционал не предусмотрен, однако команда разработчиков сервиса СМ рассматривает возможность реализации подобного функционала в будущем. КАКОГО ХРЕНА вы ТАМ РАССМАТРИВАЕТЕ!!! ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ!!! РАБОТЫ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ!!! Самим слабо?»[415]
«Ваши ответы-отписки и отмазки! Пуш-уведомления не приходят с воскресенья с 17.05, сегодня 24.05 целый день у меня вообще не работает программа! Лучше ничего не отвечайте, чем бесить своими дурацкими штампами, самим‐то не стыдно?» Ответ разработчика: «Приложение СМ создано в соответствии с требованиями законодательства города Москвы. Время идентификации пользователя определяется в произвольном порядке и запросы идентификации приходят несколько раз в течение дня с 9:00–22:00 ежедневно. Когда Вам приходит PUSH-уведомление, нужно открыть приложение и в течение 1 часа пройти идентификацию по фотографии. Благодарим Вас за использование приложения СМ».
Соседство аффекта и типового отклика указывает на контраст и конфликт вовлеченностей гражданина и департамента-разработчика. Используя ботов в острой ситуации взаимодействия с раздраженными пользователями, ДИТ экономит ресурсы и формально соблюдает протокол интернет-платформы, но едва ли помогает москвичам справиться с проблемами социального мониторинга.
Ответ на вопрос об эффективности алгоритмических действий будет иным, когда речь зайдет о поддержке оштрафованных горожан интернет-сообществом «Оштрафованы за то, что заболели»[416]. В середине мая его создал москвич Владимир Громак, решивший защищать свои права в суде после начисления двух необоснованных штрафов[417]. К концу первой недели в сообществе было более 2 тыс. участников, к концу месяца – 6 тыс., к началу ноября – 10 тыс., сейчас – 12,5 тыс. Кто-то, выздоровев, остается, чтобы поддерживать новичков. Кто-то получает помощь и не вступает в сообщество. Громак начинал с опроса товарищей по несчастью. Кто-то из них предложил объединить усилия и перейти к коллективным действиям. Запросили поддержку юристов и правозащитников. Коллективные иски начали готовить летом. Чуть раньше в материалах сообщества разместили типовые пакеты документов для тех, кто обжалует штрафы в судебном порядке.
Анна Ратина, подготовившая большой материал о сообществе для портала «Такие дела», пишет о его шаблонах и алгоритмах: «В группе есть шаблоны заявлений „На снятие СМ“ – вернее, на отказ от предоставления персональных данных, которые использует приложение. Есть и алгоритмы, как действовать в том случае, если согласие на их предоставление и установку приложения было подписано, но теперь человек хочет отозвать его»[418]. Анна описывает ситуации, рассказы, эмоции и вопросы участников как «одни и те же». А модератор Светлана считает бездействие и молчание московских чиновников главной причиной серийного воспроизводства в сообществе недоумения и отчаяния. Ответом на одни и те же проблемы большого количества пострадавших от СМ – масштаб здесь имеет значение – стала выработанная этим сообществом стратегия алгоритмического сопротивления, построенная на преобразовании опыта и знаний участников в типовые решения без утраты вовлеченности и солидарности.
В большом интервью «Интерфаксу» председатель СПЧ коснулся вопроса о защите прав москвичей, пострадавших от СМ: «Мы никогда раньше не сталкивались с таким масштабом проблемы, едва ли не 100 тысяч оштрафованных, и огромное количество жалоб»[419]. Три месяца спустя «Forbes» рассказал о 57 тыс. случаях обжалования штрафов за нарушение режима самоизоляции: к 16 октября московские суды отменили более 14 тыс. постановлений, а 8 тыс. дел прекратили[420]. Этот масштаб требует алгоритмического сопротивления и солидарности.
Заключение. «Вторая волна»… гетерогенности«Вторая волна» коронавирусной инфекции, пришедшая в Москву в конце сентября, оказалась сильнее первой. Однако столичные власти не стали вводить режим повышенной готовности или всеобщую самоизоляцию. Вместо тотальных решений в духе агрессивной биобезопасности они использовали точечные меры, затрагивающие отдельные категории горожан. Транспортные карты пенсионеров и школьников снова заблокировали. Старшеклассников перевели на дистанционное обучение. Руководителям фирм и организаций предложили отправить до трети сотрудников «на удаленку». В ночных клубах ввели QR-коды для посетителей, чтобы информировать их о фактах заражения. К СМ прикрутили историю операций. А на Google Play за изъяны СМ теперь изредка отвечают люди, а не только боты. Не отказавшись от цифровых инструментов администрирования пандемии, мэрия на этот раз использует их более гибко, создавая все более сложные комбинации рутинного и чрезвычайного. Означает ли это, что «первая волна» для цифрового города и его администраторов стала уроком гетерогенности?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Rainie H., Wellman B. Networked: the new social operating system. MIT Press, 2014. P. IX.
2
URL: https://leica-geosystems.com/ru/industries/reality-capture/digital-city.
3
URL: http://langorod.ru.
4
URL: https://dig-city.ru.
5
De Souza e Silva A., Duarte F., Damasceno C. Creative appropriations in hybrid spaces: Mobile interfaces in art and games in Brazil // International Journal of Communication. 2017. Vol. 11. P. 1705–1728; de Souza e Silva A. From cyber to hybrid: Mobile technologies as interfaces of hybrid spaces // Space and Culture. 2006. Vol. 9 (3). P. 261–278.
6
Sutko D. M., de Souza e Silva A. Location aware mobile media and urban sociability // New Media & Society. 2011. Vol. 13 (5). P. 807–823; de Souza e Silva A., Sheller M. (Eds.). Mobility and locative media: mobile communication in hybrid spaces (1 Edition). Routledge, 2015.
7
Rainie H., Wellman B. Networked: the new social operating system. MIT Press, 2014.
8
Gordon E., de Souza e Silva A. Net locality: why location matters in a networked world. Wiley-Blackwell, 2011.
9
Маккуайр С. Геомедиа. Сетевые города и будущее общественного пространства. М.: Strelka Press, 2018.
10
McQuire S. Geomedia: networked cities and the future of public space. Polity, 2016.
11
См. главу Роба Китчина «Сетевой урбанизм, основанный на данных» в Разделе 1 этой монографии.
12
Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 1999.
13
Маккуайр С. Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство / Пер. с англ. М.: Strelka Press, 2014. C. 26–27.
14
Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 261.
15
Komninos N. Smart cities and connected intelligence: platforms, ecosystems and network effects. Routledge, 2020. Р. 36.
16
Cocchia A. Smart and Digital City: A Systematic Literature Review // Dameri R. P., Rosenthal-Sabroux C. (ed.). Smart City. How to Create Public and Economic Value with High Technology in Urban Space. New York: Springer, Progress in IS Series, 2014.
17
Подробнее о роли крупных экономических и политических структур в создании идеи «Умный город» можно прочитать в главе Сергея Любимова «К критической теории умных городов» в Разделе 2 этой монографии.
18
Название, которое мы вольно перевели как «Умнеющие города».
19
Smart Planet. URL: https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/smarterplanet/.
20
Движение мэров европейских городов для достижения общих целей в сфере энергетики и защиты климата. Основные задачи движения: сокращение выбросов углекислого газа за счет повышения энергетической эффективности и инвестиций в возобновляемые источники энергии.
21
Стратегия «Европа 2020» (A strategy for smart, sustainable and inclusive growth / «Европа 2020»: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста) создана в 2010 году Еврокомиссией. Содержит перечень мер, призванных помочь европейским странам выйти из кризиса 2008 года, а также создать условия для устойчивого роста и развития.
22
Komninos N. Smart cities and connected intelligence: platforms, ecosystems and network effects. Routledge, 2020. Р. 2.
23
См. главу Китчин Р., Додж М. «(Не)безопасность умных городов: проблемы, риски, а также смягчение и предупреждение негативных последствий» в Разделе 1 этой монографии.
24
Komninos N. Smart cities and connected intelligence: platforms, ecosystems and network effects. Routledge, 2020. Р. 15.
25
Ратти К., Клодел М. Город завтрашнего дня. Сенсоры, сети, хакеры и будущее городской жизни / Пер. с англ. Е. Бондал. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. С. 62.
26
Борхес Х. Л., Касарес А. Б. Хроники Бустоса Домека. М.: АСТ, 2011. С. 6.
27
Подробнее об опасностях и рисках умного города можно прочитать в главе Роба Китчина и Мартина Доджа «(Не)безопасность умных городов: проблемы, риски, а также смягчение и предупреждение негативных последствий» в Разделе 1 этой монографии.
28
COVID-19: Data. URL: https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data.page.
29
Карта распространения коронавируса по Москве. URL: https://coronavirus.mash.ru.
30
Koch T. Cartographies of Disease: Maps, Mapping, and Medicine. 2 edition. Redlands, California: ESRI Press, 2016; Bashford A. ed. Quarantine: Local and Global Histories. Macmillan International Higher Education, 2016; Hinchliffe S., Bingham N., Allen J., Carter S. Pathological Lives: Disease, Space and Biopolitics. John Wiley & Sons, 2016.
31
Подробнее о цифровых и партисипаторных аспектах антиковидных мер в Москве можно прочитать в главе Галины Орловой и Джереми Морриса «Пандемия в (без)умном городе: цифровые протезы и аффордансы московской самоизоляции» в Разделе 2 этой монографии.
32
Подробнее об опасностях и рисках умного города можно прочитать в главе Роба Китчина и Мартина Доджа «(Не)безопасность умных городов: проблемы, риски, а также смягчение и предупреждение негативных последствий» в Разделе 1 этой монографии.
33
Manifesto for Agile Software Development. URL: http://agilemanifesto.org.
34
Подробнее в главе Галины Орловой и Джереми Морриса «(Пандемия в (без)умном городе: цифровые протезы и аффордансы московской самоизоляции» в Разделе 2 этой монографии.
35
«Социальный мониторинг» попал под следствие. Выявлена афера при разработке мобильных приложений // КоммерсантЪ. 19.03.2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4739820.
36
Meduza. 23.03.2021. URL: https://meduza.io/news/2021/03/23/politsiya-vozbudila-ugolovnoe-delo-posle-massovoy-utechki-dannyh-moskvichey-perebolevshih-sovid-19.
37
Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak. URL: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_annex_en.pdf.
38
Борьба с инфодемией на фоне пандемии COVID-19: поощрение ответственного поведения и уменьшение пагубного воздействия ложных сведений и дезинформации. Совместное заявление ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНЭЙДС, МСЭ, инициативы ООН «Глобальный пульс» и МФКК. URL: https://www.who.int/ru/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation.
39
Cardullo P., Di Feliciantonio C., Kitchin R. (Eds.). (2019). The Right to the Smart City. Emerald Publishing Limited.
40
Kitchin R. Using digital technologies to tackle the spread of the coronavirus: Panacea or folly? // The Programmable City Working Paper 44, 2020. URL: https://progcity.maynoothuniversity.ie/wp-content/uploads/2020/04/Digital-tech-spread-of-coronavirus-Rob-Kitchin-PC-WP44.pdf.
41
Довбыш О. Болезнь в картинках, графиках и картах: Как ситуация пандемии коронавируса влияет на развитие дата журналистики в российских регионах // Когда «корона» тяжела: цифровые медиа в эпоху пандемии / Под ред. А. Качкаевой, С. Шомовой. М.: Издательские решения, 2021. С. 180.
42
Микроурбанизм. Город в деталях / Отв. ред.: О. Н. Запорожец, О. Е. Бредникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
43
Запорожец О., Ткач О. Соседство на карантине. По материалам дневников москвичей и петербуржцев. URL: https://privetsosed.org/covid2020?fbclid=IwAR3_nIfMuiyTcp66r442AmRk0bAZHmoGQRBiYwpuWgAM0ezSRIBIWUnFY9M.
44
Safransky S. Geographies of Algorithmic Violence: Redlining the Smart City. International Journal of Urban and Regional Research. 2019. Vol. 44 (2). P. 200–218.



